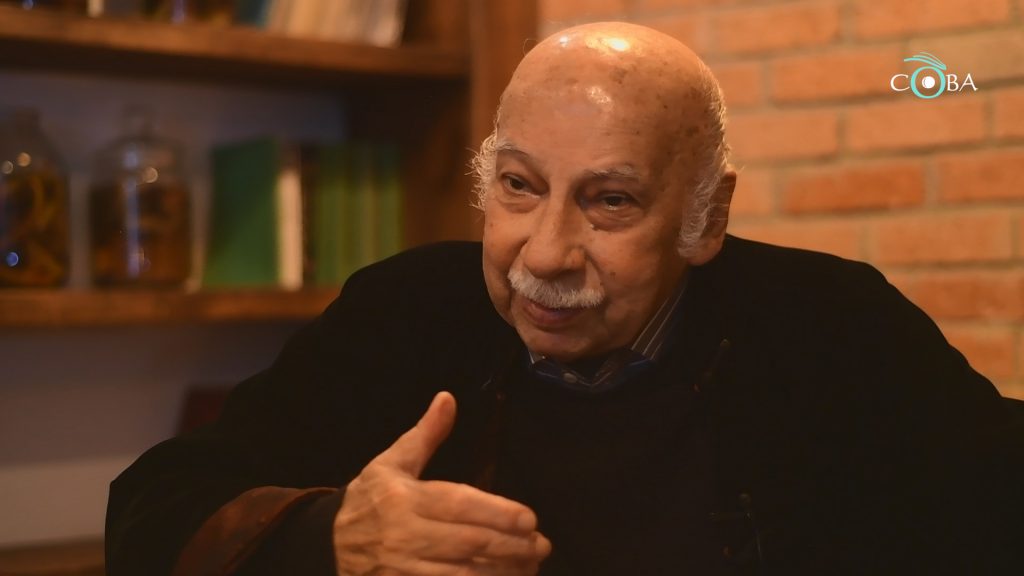– Вы не частый гость в Тбилиси в последние годы. Несколько раз в год бываете, насколько я знаю.
– Да, два-три раза в год бываю.
– А почему так редко? Вы – одно из лиц этого города, этой страны. Вас не хватает тут.
– У меня очень хорошие условия для работы там и я привык работать там, потому что в 91 году я получил стипендию DAAD в Берлине, где жил по 95 год. А в 96 году Симфонический королевский оркестр города Антверпен предложил мне на год переехать в этот город. Они мне предоставили на выбор несколько квартир. Я выбрал за городом, чтобы была тишина. Ну а через год я решил остаться в Антверпене, потому что этот город мне намного больше напоминал Тбилиси, чем Берлин. И плюс к этому, сами бельгийцы необычайно толерантные. Я поэтому решил там обосноваться. В данный момент я воспринимаю Антверпен как дом творчества, где у меня замечательные условия. Благодаря грузинским каналам, интернету, тбилисскому телефону, работам моих ближайших друзей-живописцев, в картинах которых моя квартира: Гога Месхишвили, Кока Игнатов, Резо Габриадзе, Гаяна Хачатурян, я чувствую себя также, как чувствую себя в Тбилиси.
В Тбилиси я приезжаю, если это связано с исполнениями или, чтобы навестить могилы моих родителей, моей сестры, моих друзей. Если говорить о музыкальном круге, уже почти никого не осталось. Я всех пережил. И мне неловко иногда бывает, что я еще продолжаю жить, а их уже нет. И мне очень трудно без них. Но все -таки несколько человек у меня здесь остались. Я приобрел электро-рояль с нормальной клавиатурой, поставил его у моего друга Гоги Качарава и каждый день я сижу у него по 6-7 часов работаю.
– Вы продолжаете работать по 6-7 часов в день?
– Да, я работаю всю жизнь. Когда я создаю схему произведения, мне бывает трудно сидеть целый день. Это самый сложный процесс для меня. Зато, когда я потом начинаю оркестровать для симфонического или камерного оркестра, тогда я могу сидеть по 10, порой по 12 часов. Если я не работаю, я себя чувствую довольно плохо.
– Вы когда-то сказали, что выбрали эту профессию в том числе, потому что можно много сидеть и не надо ходить.
– Да, я учился на геологическом факультете. После первого геологического маршрута, решил выписать специальности, которые не требуют ходьбы. И поскольку в юношестве я был увлечен джазом, все-таки музыка оказалась для меня самой близкой сферой. Перейдя на четвертый курс, подготовился и сдал экзамены в консерваторию. Там я встретил Джансуга Кахидзе. И встреча с ним абсолютно перевернула мое отношение к окружающему миру. Естественно, джаз остался любимым мной и по сей день, но я свою долгую жизнь посвятил камерной и симфонической музыке. Плюс кино и театру. Я не знаю точно, но более чем к 50 фильмам я написал музыку и ,наверно, к такому же количеству спектаклей.
– То есть все-таки все начиналось с джаза, а не классической музыки?
– Начиналось с джаза. Когда я решил опять вернуться к музыке, у меня была единственная мечта – получить ценз для того, чтобы стать биг-бэндом и продирижировать музыкой Глена Миллера или Дюка Эллингтона. И потом уже после встречи с Кахидзе, все осталось в мечтах. Но я как-то окунулся в область симфонической и камерной музыки.
– Часто бывает, что классические музыканты с пренебрежением относятся к джазменам. С таким сталкивались?
– Вы знаете, что такое джаз? Почти как деньги. Или есть, или нет. Или есть у тебя органическое какое-то восприятие этой музыки, или нет. Я знаю блестящих композиторов, которые ничего общего с джазом не имеют, а когда стараются что-то изобразить в музыке, это бывает не очень интересно. Это, мне кажется, особенный талант, какой-то дар. У меня это началось с «Серенады солнечной долины»Глена Миллера. Мне кажется, что тоталитарный режим начал расшатываться не с появлением первых диссидентов, а с появления свинга. Весь советский союз, вся молодежь была увлечена музыкой Глена Миллера. В основном, после появления этого трофейного фильма. Мне кажется, Иосиф Виссарионович не учел, что может произойти в будущем. А то бы он, конечно, запретил все фильмы, где звучал свинг.
– Понятно, что свинг и биг-бэндовый джаз пришел в Советский Союз, хотя достаточно поздно. Тогда в мире существовал и бибоп, и другие, скажем так условно, прогрессивные стили джаза. В дальнейшем как это было в Советском Союзе? Какое было развитие джаза?
– Вы знаете, совсем еще молодым, я ездил в Москву, потому что там появился биг-бэнд, в котором играли молодой Георгий Гаранян, Алексей Зубов. Появился композитор Юрий Саульский, и уровень исполнения был довольно высокий. При этом, все проходило на задворках. Я с ними подружился. Потом появился Анатолий Кролл. Когда можно было эмигрировать, многие музыканты улетели в США и там успешно работали. В Тбилиси, как бы мне мягко выразиться, существовал эстрадный оркестр, но это все-таки по уровню своему уступало, допустим, оркестру Лундстрема. Потом из Баку приехал Константин Певзнер, который показал уровень.
– Многие считают, что Тбилиси советского времени, 60-70-ые годы, были таким оазисом в плане музыкальной культурны и культуры вообще. Потому что здесь больше позволялось. Сюда приезжали со всего Кавказа и не только, потому что здесь им позволялось чуть свободнее дышать и вообще позволялось немного больше, чем в других городах и республиках. Джаза это должно было касаться особенно.
– Я это отношу к тому артистизму, которым обладает мой народ и еще к чувству юмора, который присущ грузинам. И я считаю, что руководство республики, несмотря на существующий режим, как-то более благосклонно относилось к запрещенному. Представьте себе, что в большой советской энциклопедии после слова «джаз» и тире написано«музыка толстых». Слова Максима Горького. Вы знали об этом? Определение джаза было таким. В такой ситуации очень трудно былопропагандировать этот жанр, но все-таки он существовал.
Это, знаете, как появление Баха, Шумана, Шуберта, Бетховена, Моцарта. Эти потрясающие этапы останутся навсегда. Но всегда появляются подражатели. Сейчас популярна очень электронная музыка. И не только она. Большинство из того, что создается сегодня, я называю бабочками. Это живет один день и на этом кончается. А то, что настоящее – остается. Билл Эванс – это настоящее.
– Во многом популяризации той же электронной музыки поспособствовал Майлс Девис, который находил молодых людей, таких как Херби Хенкок и давал им проявить себя.
– Дело в том, что и у нас, если талантливый человек занимается электро-музыкой, он создает продукт с положительными качествами. Но параллельно этому существует еще множество всего. В этом жанре мы еще не смогли создать ничего такого, что бы получило какой-то международный ценз и стало бы явлением. Хотя у нас есть области в искусстве, которые можно считать абсолютно уникальным явлением. Я имею ввиду грузинское народное многоголосье, которое создавалось не на площадях народом, а которое создавали абсолютно гениальные анонимы.
– Принято считать, что вы в творчестве избегали и сторонились грузинского фольклора.
– Потому что я не хотел быть плагиатором. Это было создано какими-то гениальными анонимами. Некоторые мои коллеги использовали фольклор в своей симфонической музыке. Но мне кажется, что это немного наивно звучало.
– Скажите, кто-то из современных грузинских музыкантов за последние 10 лет показался вам свежим и интересным?
– Что касается исполнителей, у нас потрясающие достижения. Если сейчас перечислить фамилии вокалистов, которые поют на лучших сценах мира, этим мы можем гордиться. Что касается скрипачей и пианистов – Саша Корсантия и Хатиа Буниатишвили показывают самый высокий уровень. Что касается моих коллег. Иосиф Барданашвили – великолепный композитор, необычайно талантливый. Ника Меманишвили (Рачвели) – очень талантливый человек, при том многогранный. Вахтанг Кахидзе – дирижер, пишет музыку высокого уровня.
Из ровесников назвать Нодара Габуния, Бидзину Квернадзе, Сулхана Насидзе и Джансуга Кахидзе. Но, к большому сожалению, времена изменились и уже нет желающих поступать в консерваторию на композиторский факультет, потому что это не выгодно.
– Это общемировая тенденция?
– Нет. Это у нас так. У нас сейчас выгодно быть юристом или экономистом. А в консерваторию уже никто не поступает. В электронной музыке не надо знать музыкальную грамоту, теорию. Надо приобрести соответствующую аппаратуру и сочинять музыку. Так называемую бабочку.
– С кем из выдающихся великих музыкантов прошлого вам бы интереснее всего было поговорить о музыке.
– Выдающиеся музыканты не любят говорить о музыке. Если оглянуться назад на 100 лет и подумать о том что происходило в музыке тогда. Я сейчас назову фамилии взаимоисключающие – Шуберт, Берг, Пуччини, Равель, Стравинский. У каждого этого направления были свои апологеты, которые не только не признавали, а к которым относились с усмешкой. Прошло 100 лет. Сегодня апологеты забыты, а гениальные авторы сосуществуют в филармонических концертах и прекрасно и дополняют друг друга.
– Это мне напоминает фразу вашего друга и соратника Георгия : «Мы снимем кино, а потом критики напишут, и мы узнаем, про что оно было».
– С Данелия я работал над семью фильмами. Первый был «Не горюй!». Этот фильм, как картины Чаплина, будут иметь успех и в будущем. Многие спектакли и фильмы умирают, но какие-то остаются.
– Вы сказали, что у вас есть грузинское телевидение в Антверпене. Вам хватает нервов его смотреть?
Я смотрю только то, что меня устраивает. Я смотрю Artarea, абсолютно аполитичный канал. Но в тоже время я слежу за происходящим в политике. Это не должно отображаться на творчестве. Я никогда не принимал участия в дебатах, ток-шоу, никогда не высказывал свои симпатии и антипатии, но они существуют. Любовь к родине – это не специальность. Пока у нас любовь к родине все больше превращается в специальность, прогресса не будет.
– Вы патриотизм определяете как термин скорее негативный или позитивный? Потому что вы сказали, что патриотизм и любовь к родине часто разные вещи.
– Мне кажется, что существует два явления, которые могут эту планету когда-то взорвать. Это религиозный фанатизм и фанатичный патриотизм. Я думал, что пропасть между религиями постепенно будет сужаться. Но сейчас я убедился в обратном. Патриотизм – это такое же чувство, как любовь к родителям, семье, детям, ближайшим друзьям. Это интимное чувство, кричать об этом ужасно. Это итог низкой культуры и очень низкого уровня просвещения.
– Вы упомянули мультикультурализм Антверпена, где живете. Тбилиси когда-то был тоже этим знаменит.
– Моя телефонная книга 40-летней давности была довольно тяжелой и толстой. В этой старой телефонной книге были фамилии русских, евреев, армян, азербайджанцев, греков …И если вспомнить этот пятачок нашего старого города, где кафедральный собор Сиони, где армянская Григорианская церковь, где Синагога, где была католическая церковь, где мечеть… Вот это все точно отображает тот дух, который у нас существовал. Но многие разъехались из-за этого омерзительного национализма. Мой друг жил на улице Пекина, на лифте было написано «Осетины, убирайтесь из Тбилиси». Во многом мы сами виноваты. Не надо было туда автобусами посылать людей с автоматами во времена Гамсахурдия. Во взаимоотношениях с Абхазией во многом виноваты мы. У грузин такой же шовинизм появлялся по отношению к абхазам, как у русских к грузинам. Вот отсюда все началось. Несмотря на то, что у абхазов был университет, где преподавали на абхазском языке, телевидение, отношение наше к ним было как к младшим.
– Вы не ездите теперь в Россию, да?
– Нет, потому что мне отвратителен режим. Я не понимаю, до каких пор Россия будет в таком состоянии. Замечательно написал Андрей Битов, мой друг, что Россия, подарив миру величайшую культуру, так и не смогла стать цивилизованной страной и народом. Это продолжается и сейчас, когда президент России, даже не хочу его фамилию произносить, обвиняет кого-то, будучи весь в крови, что у других руки в крови. Мне кажется, это происходит, потому что он – трус. Он – трус, поэтому он так вооружается, поэтому он держит свой народ в нищете. В Восточной Украине уже более 10 000 погибло. Полез в Сирию для демонстрации бицепсов. У России были возможности перейти на рельсы, ведущие к цивилизованному обществу. Но, видимо, и основная людская масса не хочет этого.
Когда говорят, что более 80% за «Крым наш», а 20% протестуют против аннексии, значит, что только эти 20% читали Достоевского, Пушкина, Гоголя, Толстого. Некоторые коллеги, с которыми меня связывала необыкновенная дружба, которым я посвящал свои произведения, оказались в этой группе «Крым наш». Мне это было очень неприятно. Поэтому я перестал туда ездить.
– А приглашают?
– Все время. И довольно часто меня играют. В Петербург приглашают, в Екатеринбург. Но я не езжу туда.
– Про современный мультикультурализм. Говорят, Тбилиси превращается в новый Берлин, в том числе благодаря электронной музыке. Значит ли это, что молодежь начала переваривать комплексы, о которых мы разговариваем, в том числе религиозные, культурные разногласия. Совершенно иное поколение зарождается в Тбилиси? Или это просто модное течение? Вы как-то следите за этим?
– Я бы не сказал, что я за этим слежу. Я смотрю канал Artarea, там часто выступают молодые люди, блестяще образованные, хорошо мыслящие, умные, воспитанные, скромные. Но почему-то эти люди не идут в политику. Их не мало.
– Но вы тоже говорите, что не высказываетесь на политические темы. Получается, вы тоже не подаете им пример.
– Я не могу высказываться на эти темы, потому что мне ничего не нравится. Мне не нравится, когда не учитывается мнение меньшинства. Это ведь так было при большевиках. С другой стороны, у меня есть теория плюсов и минусов. Во всем я вижу какие-то плюсы и какие-то минусы. И вот у нас хотя бы меняется президент- это уже какой-то прогресс. Но существуют и минусы. И это нормально. Просто очень хочется, чтобы в будущем плюсы чуть-чуть преобладали над минусами. А пока наоборот.
– Что самое важное для современной Грузии? Чего надо добиться в ближайшем будущем?
– Мне кажется, просвещение. И не чувствовать себя стоящим выше кого-то. Это самое пагубное явление. Пока оно есть, мы не сможем стать полноценной цивилизованной страной.
– Вы упомянули выборы и сменяемость власти. Вы пойдете на президентские выборы голосовать?
– Я не знаю еще. Я знаю одно, весь спектр кандидатов – это вчерашний день.
– Однажды в России у покойной Новодворской была идея, видимо, абсолютно утопическая, возобновить возрастной ценз как минимум в одной из палат парламента, чтобы там были представлены люди не старше определенного возраста. Может быть, это вариант для Грузии?
– Она была необычайно смелым и прогрессивным человеком. И практически все, что она проповедовала, было мне близко. Но она, в тоже время, была в восторге от Гамсахурдия, а я никогда не был. Есть какие-то политики в России, которые могли бы возглавить эту страну, но их близко не подпускают.
– А в Грузии вы не видите сейчас никого, за кого могли бы проголосовать?
– Люди, за которыми я наблюдаю на Artarea, в политику не идут.
– Получается с каждым из правительств Грузии у вас были разногласия?
– Нет. Я просто соблюдал определенную дистанцию. Человек, который старается что-то создать в искусстве, не должен был в альянсе с любой властью, какой бы она не была. Даже с той, которая творцу по душе.
– Но при этом творчество может быть формой политического протеста или высказывания.
– Это уже не мне решать. В Англии появилось несколько рецензий, где писали о моих симфониях. В созданных при советской власти, по их словам, больше протеста, чем в той музыке, которую я начал писать после развала Советского Союза. Но я с этим не согласен. Чувство протеста должно существовать. Даже если ты живешь в своем раю, что-то происходит в мире. Разве можно на это закрывать глаза?
– Что бы вы хотели создать в любой форме творчества, успеть что-то сделать еще?
– 19 ноября будут играть 4 моих сочинений. Вот как только я это послушаю и спустя время, может, у меня появится желание опять взяться за крупную форму. Мне много лет уже и я довольно многое перенес в жизни. Четыре раза я покидал этот бренный мир. И четыре раза меня возвращали к жизни. А один раз я был в коме две недели. Позавчера я встретился с другом Юрием Ростом, он был в Тбилиси. Когда я ему рассказал о коме, он потрясающе мне ответил: «Значит, ты две недели отдыхал». Если мне позволит состояние моего здоровья работать, я буду. Как только я перестаю работать, мне минорные мысли приходят в голову. Как только я начинаю работать, я обо всем забываю.
– А чем из сделанного вы гордитесь больше всего?
– Мне нравятся мои дети, мои внуки, мне все больше и больше нравится моя супруга. В прошлом году мы отпраздновали 50-летие. И меня это радует.
– А из творчества? Мы так мало говорили про кино, может вы какую-то свою музыку из кино любите особенно? Пересматриваете, например, фильмы, соавторами которого вы были?
– Я написал музыку ко многим фильмам. Вам может показаться это странным, но я с большим удовольствием соглашался на слабые сценарии не очень сложных режиссеров. Потому что я с этим справлялся за две недели, а потом два года мог писать одну симфонию.
Но так не было, когда я работал с Данелия, или Шенгелая, или Ланой Гогиберидзе. Там у меня уходило полгода или год сложной и трудной работы. Это фильмы, в которые было вложено много труда, они у меня в памяти и остались. А бабочки забыты. Если бы высокое искусство могло изменить мир, то для этого было бы достаточно несколько живописцев или композиторов эпохи Возрождения. Я уже не говорю о Бахе и последующих гениальных явлениях. Но, несмотря на то, что они создают величайшее искусство, мир не меняется. Высокое искусство не может изменить мир. Вот люди, которые приходят на концерт и слушают Баха… В это время эта публика меняется. Но как только концерт заканчивается, и люди возвращаются домой, к той жизни, которая сложна и трудна… Вполне возможно, что в зале сидят три террориста, которые потом могут убить невинных людей. А музыку Баха они воспринимают положительно. Поэтому я говорю, что самое высокое искусство не смогло изменить мир.