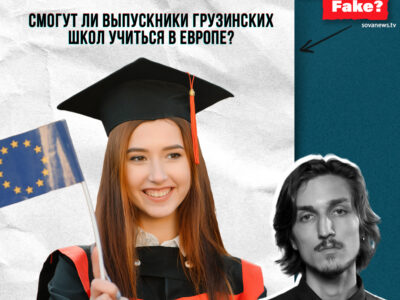Tbilisi Rhythm Festival триумфально открылся балетом «Роден, ее вечный идол» Бориса Эйфмана. Билеты были раскуплены сразу после появления в продаже, полный аншлаг. Эйфман – автор более 40 балетных постановок, лауреат «Золотого Софита» и «Золотой маски», государственных премий России, кавалер ордена Искусств и литературы Франции, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и многих других наград и титулов. СОВЕ выпала честь поговорить с главным хореографом современности по версии The New York Times.
— В советское время вы добивались возможности использовать музыку Pink Floyd в одном из своих балетов. На ваш взгляд, что сегодня может стать таким же вызовом, как балет на музыку Pink Floyd в СССР? Из современной поп-культуры вас может что-нибудь вдохновить?
— Сегодня молодежь, думаю, можно увлечь только ярким современным искусством. То есть, не просто показывая или открывая запрещенное, потому что сегодня ничего не запрещено, все можно. Но если ты делаешь настоящее искусство, то молодежь обязательно отреагирует. Я считаю, что как раз можно увлечь молодежь не поп-культурой, не рок-музыкой и даже не рэпом, а классикой. Потому что, если ты посвящаешь молодежь в классическую музыку – Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского, это будет для них открытием. Молодежь не знает классики, и они лишены очень большого пласта музыкальной культуры, вообще культуры. Нужно молодежь возвращать в мир высокого искусства – живопись, театр, музыку, литературу. Это для них будет очень сильное откровение.
— На ваш взгляд, раньше молодежь была лучше знакома с классической культурой? Двадцать, тридцать лет назад знали больше?
— Конечно! Мое поколение было очень тесно связано с классической культурой. А то, что происходит сейчас, – это дефицит образования, воспитания. Но я думаю, что сегодня актуально дать возможность молодежи познавать искусство: они могут принимать его, могут не принимать – их право, но они должны это знать. Нельзя, чтобы выросло целое поколение, не знающее, что в мире создана классическая музыка, что есть Бах, Моцарт, великие писатели и художники, что есть высочайшие культурные ценности, духовные ценности, которые молодежь просто не знает. И это, конечно, очень плохо. Это значит, что в человеке что-то недоразвито.
— Вы затронули тему того, что в современной культуре нет табу. Для вас лично, когда вы ставите спектакли, есть темы, которые вы никогда не затронете? Есть красные линии?
— Любую тему можно опошлить, любую тему можно превратить в какой-то грубый фарс или скандал. Или напротив — в известной теме открыть что-то неизвестное, открыть новое. Возьмите «Лолиту» Набокова. Ее же можно было свести к теме педофилии. Или — открыть тему эротичности, высокой чувственности и трагедии человека. И вот можно одну и ту же тему показать либо как грязную, пошлую, либо – как очень духовную и трагическую для человека. Так что все зависит от степени таланта и внутренней духовности автора. Ну, наверно, есть какие-то темы, за которые я бы никогда не брался, но даже если бы мне пришлось, я бы все-таки попытался найти не негатив, а позитив, который открыл бы человеческую драму. Человек – это диалектика, полифония добра и зла, Бога и дьявола. И в этой полифонии нужно найти акцент, смысл. Совсем иной путь — сделать скандальную историю, которыми сегодня молодые художники очень увлекаются. Нужен скандал, чтобы их имена прозвучали и запомнились.
— То есть, скандальные спектакли последних нескольких лет – намеренно скандальны?
— Скандалы бывают связаны с творчеством некоторых наших драматических режиссеров, которые берут классику и открывают в ней какие-то вещи, которые, на мой взгляд, скажем так, нехудожественны. И это уже не спектакли, а такие агрессивные аттракционы, которые вызывают неприятие. Вообще сегодня есть, конечно, запрещенные темы: это национальные проблемы, это тема религии. Есть темы, при обращении к которым необходимо быть более деликатным, осторожным. Нужен моральный стержень.
— Вы говорили, что советская цензура не давала вам работать. Вы также сказали как-то, что «художника сегодня ограничивает только самоцензура». Это касается лишь вас или в России в целом цензуры как таковой сегодня нет?
— Каждый человек в первую очередь говорит о себе, конечно. Мои коллеги могут думать по-другому, но я прожил две жизни: когда я на протяжении первого десятилетия существования нашего театра боролся за право создавать свое искусство и когда стал свободным художником. И для меня цензор – это я сам и моя публика, но ни в коем случае не власть. Потому что все, что я делаю, я делаю для публики, и публика это принимает или не принимает.
— А бывали моменты, когда публика не принимала?
— Пока не было [смеется]. Но если будет, так вот, это – мой цензор.
— То есть вы отреагируете? Не скажете: «публика ничего не понимает»?
— Я буду переживать и буду думать, почему так получилось. Конечно! Я не из тех художников, которые говорят: я творю для себя, а на публику мне наплевать. Театр – это сцена и зрительный зал. Ты работаешь для зрителей. Вот сегодня у нас полный зал, и я буду стараться, чтобы у людей, которые сегодня придут, не было разочарования, чтобы я оправдал те надежды, которые они питают.
— Есть ли для вас история, которую нельзя рассказать с помощью танца?
— Есть. Но я беру только те истории, которые можно станцевать, выразить языком тела. Да, я беру литературу. Но я ведь не иллюстрирую текст. Я беру основу, и в ней, внутри открываю то, что невозможно выразить словами. Вот у меня есть балет «Анна Каренина». Там много написано, но все равно вот эти страстные объятья Вронского и Анны Толстой не описал словами. Он не написал, что заставило Анну бросить мужа, бросить ребенка, стать одержимой, сексуально зависимой от мужчины. Это может выразить только тело человеческое! Поэтому я беру такие темы, которые язык тела покажет более выразительно, чем слова.
— Ну раз мы вспомнили про Анну Каренину… Вы много рассказывали про нее, и мне стало интересно: вы осуждаете ее? И вообще, ваши герои вызывают у вас какие-то эмоции, или вы смотрите на них отстраненно?
— Конечно! И сам выбор героев никогда не случаен. Это близкие мне герои. Вот, допустим, Роден – он художник, и я художник, он работает с человеческим телом, и я тоже. Это герой, близкий мне по духу. А Анну я не осуждаю, я пытаюсь открыть в ней мир страсти. Я разделяю любовь и страсть. Для меня страсть – это разрушающее, уничтожающее, дьявольское начало. Любовь – это созидающее начало, то, что делает жизнь человека богаче и духовнее.
— То есть вместе они не существуют?
— Я думаю, существуют. Но все равно в какой-то момент что-то одно подавит другое. И если победит страсть, то она уничтожит любовь.
— Когда вам приходит идея о новой постановке, что первично – какой-то ваш замысел, музыка или какой-то образ?
— По-разному. «Анна Каренина» началась, конечно, с сюжета. Роман Толстого стал первопричиной, и потом уже прошло все остальное: режиссура, музыка, хореография. В «Реквиеме» Моцарта первопричина музыка. В «Родене» – личность. Всегда по-разному.
— Вы как-то говорили, что мастерство танцоров упало, и теперь в театрах проблемы с кадрами. Как вы думаете, в чем причина? Неужели упал престиж профессии? Или нет педагогов?
— К сожалению, это системный кризис, у него много причин. Вот Николай Максимович Цискаридзе – потрясающий педагог, выдающийся. Но в целом и уровень преподавания в хореографических училищах, и престиж профессии упали. Потому очень маленькие конкурсы, потому берешь уже не того, кого бы ты хотел, а того, кто приходит и желает танцевать.
— Вы создали больше 40 балетных постановок. Среди них есть какие-нибудь более любимые или, напротив, те, про которые вы думаете: вот тут бы изменить что-нибудь?
— Я вообще не люблю свои постановки. Я пытаюсь их быстро забыть, чтобы сделать новые. Потому что если ты очень любишь свою жену, ты не пойдешь к любовнице, правда? Поэтому мне нужно о них забыть, чтобы идти вперед.
— Стоит ли нам ждать балет на музыку Гии Канчели?
— Может быть, почему нет! Я его очень люблю и очень люблю его музыку. Там есть загвоздка с авторскими правами, и пока у меня нет своего театра, это сложно. Но когда он появится – обязательно!