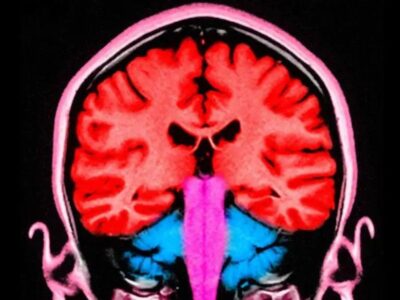22 июня 1941 года Наталье Рубинштейн было всего три года с небольшим, и потому начала войны она не помнит. Но зато помнит, как из Ленинграда месяц спустя эвакуировали детей. Это стало первым событием ее детской памяти. Вот ее рассказ.
Немного уже в мире осталось людей, для которых эта война — не страница учебника, не повесть и не кино, не карта за обшлагом рукава для идеологических спекуляций, а обстоятельство времени, места и образа действия их собственной жизни. Среди них я — из младших.
«До войны…» — говорили мечтательно взрослые. Я и представляла себе дело так, что вся толща времени разрезана пополам — на «войну» и «довойну».
И когда «война» закончится — а ведь закончится же она когда-нибудь, — мы вернемся в «довойну», в город Ленинград, в котором я родилась, но которого совершенно не помнила, и с нами будет папа, которого я, родившаяся через шесть недель после его ареста, никогда не видела и которого сама, собственной волей и воображением определила на фронт.
Потому что отсутствие мужчины в доме никаких недоумений не вызывало: у всех отцы были на фронте, и я, естественно, полагала, что и мой находится там же.
Если я послушно и безропотно принимала прописанные мне по болезни горькие порошки, мне в награду доставались продолговатые бумажные прямоугольнички из-под лекарства; мама их разглаживала и отдавала мне.
На этих обертках я писала папе письма, украшая их зелеными танками, из хоботов которых вырывались красные веники огня. «ПАПА! БЕЙ ФАШИСТОВ!» — писала я, изо всех сил собирая воедино новорожденную грамотность. Буквы «Б», «С» и «В» смотрели не в ту сторону.
Эти письма, вместе с мамиными, папа по окончании каторжного срока привез домой из Краслага через год после войны. Я нашла их в маминых бумагах уже после смерти обоих родителей. Я разглядывала эти листочки со странным чувством недоумения: кем приходится мне эта девочка? точно ли она — это я?
Как и для всех людей моего поколения, война, которую в мире звали Второй мировой, а в стране — Великой Отечественной, есть самое первое, самое главное, я бы сказала, фундаментальное событие моей жизни. И моя связная память о себе начинается с войны.
Медальон
Лев Толстой говорил, что помнит себя у груди кормилицы. Ну, так то Лев Толстой. Некоторые помнят себя с полутора-двух лет. Но большинство, к которому и я отношусь, — лет с четырех-пяти.
А до этого связной памяти нет. Но есть как бы проступающие из полумрака отдельные яркие пятна.
6 июня 1941 года мне исполнилось три, и на день рождения мама впервые устроила для меня детский праздник. На даче, в Вырице. На тот момент три года исполнилось и со дня папиного ареста. Полтора года со смерти бабушки Цецилии Генриховны, маминой мамы. Так что у мамы с теткой Леной праздник был не слишком веселый.
Но для детей праздник удался. И мама так много раз рассказывала мне об этом, что я почти готова счесть ее воспоминания своими. Но моя собственная память ничего об этом ярком событии не сохранила.
А через две недели началась война. Однако и первый день войны я знаю не по собственному воспоминанию, а по рассказам, книгам и кинофильмам.
Зато я в подробностях помню день эвакуации. Числа не знаю. Но думаю, что конец июля или самое начало августа. Потому что жарко, потно, хочется пить. Мама держит меня за руку. Я понимаю, что происходит что-то тревожное.
Весь детсад привели на вокзал парами. Уже без мам. Их собрали утром в угловом доме на Чехова-Жуковского, куда и я уже ходила какое-то время. Но мама упросила знакомых воспитательниц, и ей — единственной — разрешили проводить дочку лично.
Мама всю ночь собирала мои вещи, пришивала метки: «Ната Альтварг». Надела мне на шею позолоченный серебряный медальон.
Там внутри были крохотные фотографии родителей и их имена. А на крышечках выгравированы мое имя, отчество и фамилия, день и год рождения, домашний адрес, который я уже и так знала наизусть, хоть разбуди меня ночью: «Чехова пять, квартира девять».
Всё это я помню отлично, потому что медальон был со мною до самого нашего отъезда из России в 1974 году. Весь он был мелко погрызен молочными острыми зубами, видно, я так спасалась от одиночества.
Бомбежка
Туфли у меня были новые, бежевые, на перепонке с коричневой пуговкой; красивые, но жесткие, не разношенные, жали.
Мама знала слово «эвакуация», а я нет. Мама боялась меня расстроить и не плакала. И ничего не объясняла. Но я все равно капризничала, ныла и канючила: «Пить хочу, хочу пить». Мама уже отдала воспитательнице мои вещи. Осмотрела мою полку в вагоне. Сказала: «Ты тут будешь спать. С другими детками. Будет весело. А потом я приеду к тебе».
Она вышла из вагона, как ей велели, а я стояла в проеме вагонной двери, качала ногой в жесткой туфельке и по-прежнему ныла: пить хочу, хочу пить. Мама не решалась отойти, боялась потерять последние минуты.
Но я не унималась.
И мама взяла кружку и пошла к кипятильнику: «Это рядом. Я мигом». Я смотрела ей вслед. И тут поезд дрогнул и медленно тронулся. Мама обернулась. Глаза у нее были в пол-лица и становились все больше и больше.
Противная туфля наконец слетела с моей ноги и больше не жала. Воспитательница втащила меня внутрь. Так я и уехала от мамы в одной туфле, с медальоном во рту, без слез…
Не помню, куда направлялся наш состав. Мама, конечно, знала адрес. Но ночью была жестокая бомбежка с воздуха, и от всего детского эшелона осталось два вагона. Их прицепили к другому составу, и мы поехали неизвестно куда. Оказалось, в Кировскую область. Мама нашла меня только через два года.
Мама…
Это ей сильно повезло. Она встретила на улице какую-то женщину, прежде работавшую в нашем детском саду, и узнала, что она переписывается с бывшими сослуживицами и недавно получила письмо из деревни Раи.
Этих сведений маме оказалось достаточно, чтобы собраться в путь. Почему я никогда не распросила ее, как она вышла из города еще до дороги через Ладогу, до «дороги жизни»? За взятку, что ли? А кому? А на каких поездах? С кем и как? С какими документами на разрешение? Совершенно одна?
Но других событий — ночную бомбежку, пожар и гибель людей, я не помню совершенно, как и все последующие дни без мамы, в интернате. Видно, впечатлений дня хватило с лихвой, и судьба сжалилась — отключила память.
Единственное яркое пятно: солнечный зимний день, заснеженное, искрящееся крыльцо под островерхим навесом. Уцепившись рукой в варежке за круглую балясину, я, наращивая скорость, кружусь вокруг столба, поддерживающего навес, до полного изнеможения и падаю на снег.
«Наташа! — зовут меня. — Скорей! Твоя мама…»
В валенках… в ватнике… в сером платке… Чужая… Незнакомая… Стриженая…
И это моя мама?
Наталья Рубинштейн — бывший сотрудник Русской службы Би-би-си, много лет проработала на радио, сейчас на пенсии.