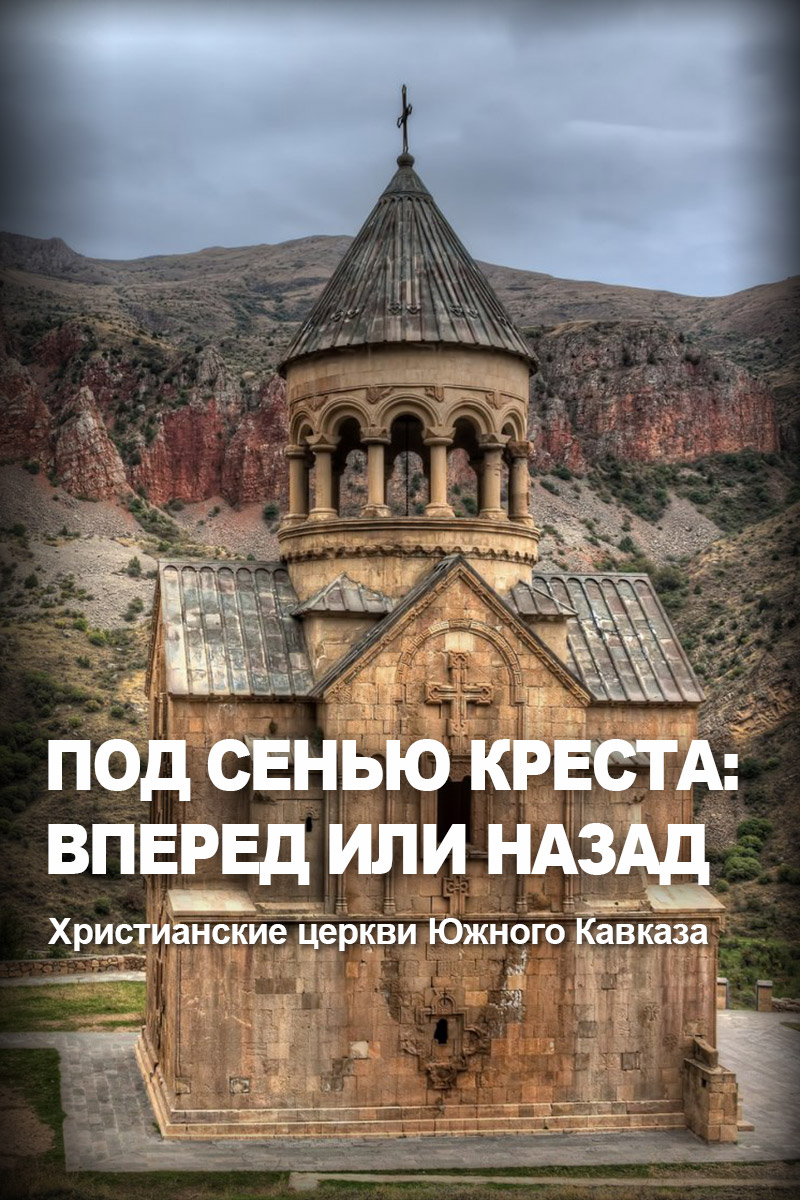В оккупированном Цхинвальском регионе состоялась презентация новой книги — пропагандистского учебника по истории — «История Республики Южная Осетия» (330 страниц — ред.), в котором Грузия представлена как враг. Представители грузинской власти называются «захватчиками», «агрессорами», «оккупантами», «врагами», а их действия — «экспансией», «оккупацией». А «революция роз» — «госпереворотом».
В противовес этому подчеркнута позитивная и «спасительная» роль Российской империи, России.
Говорится и о том, что князья Церетели и Мачабели имеют осетинские корни, а среди героев «300 арагвинцев» большинство было осетинскими крестьянами.
Де-факто лидер Цхивнали Алан Гаглоев назвал учебник для старшеклассников «вкладом в будущее». В учебнике, по словам т.н. главы Минобразования Аслана Лолаева, освещены «ключевые темы истории нашего государства с древнейших времен до наших дней».
SOVA предоставляет вашему вниманию подробный разбор учебника для школьников 10-11 классов.
Уже на первых полях книги в контекте, к примеру, каменного века, говорится, что первые находки на территории Южной Осетии — это стоянки и изделия эпохи палеолита, которые были найдены в 1950-х годах в Знаурском районе, окрестностях Цхинвали, а также в Джавском районе. Упоминается и Цонская пещера Шида Картли.
В книге можно найти названия глав — «Палеолит Южной Осетии», «Мезолит Южной Осетии», «Неолит Южной Осетии», «Энеолит Южной Осетии», «Достижения бронзового века» и другое.
В издании говорится о «кавказских аланах», которые вели кочевой образ жизни и позже создавали «аланские городища» — Зилгинское в Северной Осетии-Алания.
Упоминается и «царь иберов» Аспагур, который основал в III веке Цхинвали. В этом контексте можно вспомнить утверждение цхинвальской пропаганды о том, что осетины в южной части Грузии, в Цхинвальском регионе, жили издавна и что это — не исконну грузинская земля. В книге читаем, что аланы сотрудничали с наследницей царства иберов — «средневековой Грузией», что «на территории Южной Осетии» обнаружены драгоценные украшения аланской знати, дорогое оружие.
Сообщается о том, что «Алания выступала противником мировых держав, боровшихся за Кавказ» и часто союзником Алании была Иберия.
«В 35 г. аланы вмешались в иберо-парфянскую войну на стороне Иберии. В 72 г., договорившись с иберами, аланы через их территорию совершили победоносный поход в Армению и Мидию. Знатные иберы носили сарматоаланские имена – Фарнаваз, Саурмаг, Аспарук, Ксефарнуг, Шарагас, Зевах, Радамист и т. д. Связи с древней Иберией стали впоследствии основой сотрудничества алан с ее наследницей – средневековой Грузией».
В книге приводится справка из «Армянской географии» VII века, где говорится о том, что Терек (თერგი — река, протекающая на территории Грузии и РФ — ред.) называется рекой Аландон, «страна
Алания по старой традиции именуется Сарматией» и что реки Ингури и Риони «вытекали из Алании».
Осетинские историки утверждают, что этот труд содержит «самое полное описание Кавказа».
«Так, в древности и средневековье называли Дарьяльский проход (по-персидски «Дари-алан»). По средневековым грузинским данным, реки Ингури и Риони вытекали из Алании», — говорится в учебнике.
Цхинвальские историки пишут, что в X–XII веках аланы имели тесные связи «с соседней Грузией» и неоднократно приходили ей на помощь в войнах. Отмечено также, что в начале XII века по просьбе царя Давида Строителя «аланы пропустили через свои земли в Грузию сорок тысяч половецких семей».
Упоминается и о первых родственных связях грузин и осетин.
«Борена, сестра аланского царя Дургулела, была женой его союзника – грузинского царя Баграта IV. Матерью Баграта IV тоже была аланка по имени Альда. <…> В начале XII в. царь Давид Строитель выдал одну из своих дочерей замуж в Аланию. Бурдухан, дочь аланского царя Худдана, стала женой грузинского царя Георгия III. Благотворным для Грузии оказался брак их дочери – царицы Тамары с аланским царевичем Сосланом-Давидом в конце XII века».
В части книги о грузино-аланских отношениях говорится о том, что аланский царь «Багатар заключил союз с Ксанским эриставом (правителем восточных территорий нынешней Южной Осетии)», а далее завоевал территорию нынешнего Горийского района, которую позже отвоевал царь Георгий V.
«Эта княжеская семья тоже была ветвью аланской царской династии. Завоевав Горийскую область, Багатар изгонял из завоеванных владений грузинских князей и расселял своих аланских вассалов. Лишь в 1326 г., через 20 лет после смерти Багатара, грузинскому царю Георгию V удалось отвоевать у алан Гори – и то после трехлетней осады. Грузинские хроники повествуют только о событиях на территории Грузии».
В эпоху Золотой Орды, пишут авторы, грузинские правители «охотно поддерживали выживших аланских алдаров», принимали их на службу, наделяли имениями, где проживали грузинские крестьяне. Авторы подчеркивают, что делалось это с целью — завоевать Аланию.
«Используя аланскую знать, правители грузинских земель стремились проникнуть в соседние аланские области. Влияние на горную Аланию было ценным политическим ресурсом. Там искали союзников, набирали наемные военные отряды. В аланских горах прятались от сильных и жестоких врагов. И, конечно, правители Грузии надеялись со временем приобрести власть над Аланией».
Старшеклассникам рассказывают, что средневековые границы на территории Грузии «не были четкими»: в этих зонах, по утверждениям цхинвальских историков, формировались княжеские династии от аланских эмигрантов.
«Как правило, они претендовали на власть над осетинскими и грузинскими крестьянами. Для того, чтобы закрепить свое положение, алдары становились вассалами грузинских царей, получали от них земли и титулы. Войдя в состав грузинского господствующего класса, аланские алдары со временем принимали язык и культуру новой родины. Самой ранней из княжеских династий аланского происхождения были Ксанские эриставы. Их родоначальники Ростом и Бибила были членами аланского царского дома. Потерпев поражение в междоусобной борьбе, они вместе со своими дружинниками удалились на закавказскую окраину Алании. Сначала поселились в области Урстуалта нынешней Южной Осетии, а оттуда перебрались в Ксанское ущелье. Там их феодальные права подтвердили грузинские цари. В XIII веке эта княжеская семья уже имела высший титул грузинской аристократии – эристави («глава народа»). Ксанские эриставы играли заметную роль в политической жизни Грузии и стремились расширять свои владения. Они часто совершали вторжения в туальское высокогорье Алании, пытаясь подчинить горцев своей власти».
Позже ксанские эриставы перебрались в Арагвское ущелье и получили титул Арагвских эриставов.
Своеобразна и трактовка цхинвальских ученых о происхождении грузинских князей Церетели и князей Мачабели — по утверждению цхинвальских историков все они имеют осетинские корни.
«Аланского происхождения были и князья Церетели, владевшие селами в Сачхерском ущелье. Предки их после походов Тимура переселились в Имерети, где царь Соломон I пожаловал им земли и княжеский титул.
С событиями конца XIV в. связаны первые упоминания княжеской семьи
Мачабели, имевшей владения в селении Ачабет. Их предков часто связывают со знатнейшим абхазским родом Ачба. Однако существует и версия их осетинского происхождения, которая вполне соответствует политике грузинских царей. В пограничной зоне со смешанным населением они старались поддерживать аланских князей, чтобы через них распространять свое влияние на внутренние горные области Южной Осетии», — читаем в материале.
В этом контексте говорится, что крупнейшими алдарскими династиями (аланскими, осетинскими — ред.) были Ксанские эриставы, Арагвские эриставы и князья Мачабели.
«Предки Ксанских эриставов были младшей ветвью аланского царского
рода. Полученный от грузинских царей титул «эристави» («глава народа») со временем превратился в фамилию. По-осетински их называли «ерыстаутæ» (т.е. Эристави, ერისთავი — ред.). С помощью грузинских царей ксанские алдары-эриставы устанавливали феодальные порядки в долинах рек Ксандон, Меджуда, Лехура, Малая Лиахва».
В книге читаем, что в 16 веке на территории Арагвского ущелья обосновались представители знатной аланской семьи из рода Сидамонта, а «грузинские правители опирались на дворян осетинского происхождения, чтобы через них закрепиться в Южной Осетии».
«Это происходило по всему периметру соприкосновения грузинских владений с осетинскими территориями. Имеретинские князья Церетели, имевшие осетинских предков, со временем заявили претензии на некоторые села в западной части Южной Осетии. Осетинского происхождения были князья Херхеулидзе, имевшие земли в нынешнем Знаурском районе», — сказано в учебнике для старшеклассников школ оккупированного Цхинвальского региона.
Говорится и о том, что в 16-17 веках усился княжеский род Мачабели: сначала они имели «лоскутные» владения в селах Ачабети и Хеити в долине реки Лиахви, но никогда не имели характер единой или самостоятельной территориально-административной единицей.
Но грузинские правители, пишут осетинские историки, со временем помогли Мачабели увеличить владения путем покупки и захвата чужих земель.
«Чтобы проникнуть в Осетию, царская власть потакала претензиям Мачабели на присвоение горных территорий. Пограничные захваты оформлялись как царские пожалования за усердную службу. Последний пример превращения осетинской семьи Цопыккатæ в грузинских дворян Казбеги, правителей пограничного района Хеви, относится к
XVIII веку».
В главе о политических отношениях с «грузинскими владениями» читаем, что военные силы осетин нередко использовались правителями Грузии «не только в борьбе с турецкими и иранскими завоевателями Грузии, но и в междоусобных распрях грузинских феодалов. Например, Ксанские эриставы соперничали с царями Картли по богатству и военной силе».
«За военные заслуги знатные осетины получали дворянские грамоты и земельные владения – в том числе в Цхинвале», — пишут авторы.
Однако, отмечают они, грузинские правители не оставляли попыток «подчинить себе южные осетинские общества».
«Для этого цари Картли назначали туда своих представителей, давали княжеским семьям права на осетинские села и целые ущелья. Такие
назначенцы пытались силой оружия насаждать грузинскую власть. В первой четверти XVII в. часть Южной Осетии попала под управление известного моурава Георгия Саакадзе. Осетины оказали жесткое сопротивление его вторжению».
В ответ «на экспансию», читаем в пропаганде де-факто властей оккупированного региона Грузии, осетины совершали набеги на равнинные села Грузии, забирая имущество, скот, пленных.
Слова «осетия» и «осетины», отмечено в книге, — «российское изобретение 18 века». «Ясов» тогда уже не помнили. Говорится, что русские чиновники воспользовались грузинским вариантом названия Алании – «Осети» (ოსეთი, ოსი — осетия, осетины — ред.).
Осетинские ученые пишут и о подвиге «300 арагвинцев», большинство которых, по их версии, являлись осетинами, которые помогли грузинскому царю Ираклию II, оформившему с Российской империей Георгиевский трактат, в битве с войском Ага-Магомет-ханом.
«Екатерина II направила в Грузию десятитысячный отряд. На помощь Грузии пришли и горцы Арагвского ущелья, пытавшиеся не допустить врага в Тбилиси. В историю Грузии вошел «подвиг 300 арагвинцев», большинство их были осетины. Военную помощь Грузии оказали и нарцы из Туальского общества», — читаем в учебнике.
Подчеркивается, что территория Цхинвальского региона — исконно осетинская земля, права на которую начали доказывать грузинские князья, в то время, как «население горно-предгорной части Южной Осетии никогда не признавало притязаний грузинских феодалов». Говорится об «экспансии грузинского феодализма», но уже «внутри Российской империи».
«Присоединившись к России, грузинские князья принялись доказывать свои права на повинности осетинских крестьян и земельные владения в Осетии. Речь шла не только о зависимых крестьянах помещичьих имений. Князья требовали исполнения повинностей от всех свободных горцев. А население горно-предгорной части Южной Осетии никогда не признавало притязаний грузинских феодалов.
<…> Самые глубокие причины для сопротивления существовали в Ксанском и Дзауском (Джавском — ред.) обществах. Князья Эристави-Ксанские и Мачабели претендовали прежде всего на земли и повинности ксанцев и дзауцев.
<…> Грузины, признанные российскими дворянами, получили доступ к управлению осетинами в роли российских чиновников и офицеров. Самым популярным лозунгом осетинских волнений XIX веке оставалась просьба заменить грузинских дворян русскими офицерами», — пишут цхинвальские авторы.
Затронут и вопрос административно-территориального деления: к концу 19 века Осетия, пишут авторы, делилась между тремя центрами управления — Тифлисской и Кутаисской губерниями и Терской областью.
«Осетинский округ входил в Горийский уезд Тифлисской губернии. Восточная часть Южной Осетии и осетинское население верховьев Арагвы относились к Душетскому уезду той же губернии. А западные окраины Южной Осетии попали в Рачинский и Шаропанский уезды Кутаисской губернии».
В книге есть подглава «Объективная оценка причины конфликтов», где подчеркивается исконная независимость осетин, проживающих на территории ныне Цхинвальского региона.
«Честные русские чиновники докладывали своему начальству, что в горах Урстуальского, Дзауского, Ксанского обществ, на которые претендуют князья Эристави, «нет никаких следов их управления». И в ущельях Большой Лиахвы, куда лезли князья Мачабели, русские находили только свободных осетин, «им никогда не повиновавшихся и не принадлежащих»».
В подглаве «Цхинвал и осетины» читаем, что история города, основанного грузинским царем Аспагуром в 3 веке, «тесно переплетена с историей осетинского народа». Говорится и о населении: там проживали, по утверждению авторов, армяне, грузины, евреи. Осетины — читаем в книге — стали проживать там позже.
«Первые осетинские семьи обосновались здесь в XVIII в. на земельных участках, полученных за военную службу. Затем стали переселяться мастеровые и торговые люди. В XIX в. постоянно росло число осетин, осевших в Цхинвале. <…> Цхинвал стал своеобразным «деловым двором» – посредником между горной Осетией и городами Грузии. Не случайно осетины называют его «Чъреба» – «место сбора», «место, где встречаются люди»».
О роли грузинских священников в 19 веке в книге говорится, что у грузинской церкви не было опыта богослужения на осетинском языке — грузинские священники «не знали осетинского языка и народной культуры», поскольку «привыкли работать на языковую и культурную ассимиляцию осетин, на подчинение народа соседним грузинским князьям».
«Осетинский язык стали преподавать в Тифлисском духовном училище.
В сентябре 1836 г. для подготовки осетин-священников открыли Владикавказское духовное училище».
В главе о «государственности» Южной Осетии говорится о том, что первый Национальный совет стал «первым национальным органом власти» в 1917 году. «Всеобщее возмущение» вызвали такие решения Закавказского сейма, как закон о земле, «сохранивший привилегии грузинских помещиков, и приказ о разоружении населения. В марте 1918 г. осетинские и грузинские крестьяне вместе выступили против помещиков и защищающей их администрации».
«До акта о независимости Грузии оставалось три месяца, но грузинская власть уже готовилась удержать территории Осетии под своим контролем. Поэтому в Цхинвал направили военную экспедицию.
Известный грузинский революционер Филипп Махарадзе писал, что каратели «безжалостно расстреливали пленных, разрушали и сжигали деревни, чем вызвали к себе ненависть всего осетинского населения».
Уходя от России, Грузия опиралась на поддержку немцев. Протестующих осетин бомбили германские аэропланы. А в мае 1918 г. Германия немедленно признала независимость Грузии и ввела в нее свои войска. Единство и самоопределение Осетии превратилось в международную проблему», — пишут авторы.
Единственным интересом Грузии в те годы, говорится в учебнике, было «завершить разоружение и навсегда покончить с осетинским вопросом».
Через учебник по истории цхинвальским школьникам сообщат и о «геноциде осетин 1920 года». В книге есть подглава «Геноцид: способы истребления и расправы» (стр.174).
Кресло прокурора вместо тюремных нар: о назначении в Ахалгори и убийстве Татунашвили
«Государственные органы Грузии приняли решение уничтожить Южную
Осетию, насильственно «очистив» ее от осетин. Воинская операция сопровождалась кампанией в грузинской прессе. Осетин изображали потомственными разбойниками, живущими за счет Грузии. Газеты призывали «не щадить этих изменников, ядовитых змей с их детенышами, которые должны быть уничтожены». Южным осетинам цинично советовали самоопределяться в Северной Осетии».
Однако также авторы пишут, что между грузинскими и осетинскими крестьянами не было розни и этнических противоречий. И поэтому «массовые казни нельзя было использовать на глазах соседей-грузин. <…> Поэтому в районах со смешанным населением применяли другой способ – «тактику устрашения»: показательную ликвиддацию руководителей и активных участников Сопротивления».
А тех, кто не участвовал в движении сопротивления, пишут авторы, депортировали под видом «демократической процедуры» — в отдаленные районы Восточной Грузии. Это, подчеркивают авторы, была «этническая чистка».
«Для расправы над теми, кто скрылся в горах и лесах, использовали четвертый способ – «вероломное миролюбие». Правительство обратилось к осетинам с призывом вернуться к мирному труду. Те, кто попытался вернуться, были расстреляны засадными отрядами или подверглись депортации», — читаем в учебнике.
Тогда и появились осетинские беженцы — около 20 000 осетин из Джавского ущелья, а всего из региона — до 50 000 человек, пишут авторы, употребляя термин «оккупация».
«Отступившие на Север повстанцы вернулись в Южную Осетию в марте 1921 г. Им пришлось с боями освобождать родину от грузинской оккупации. <…> Беженцев-южан, учтенных на территории Северной Осетии, оказалось более 25 тысяч человек. Все осетинское население Южной Осетии (в пределах будущей Юго-Осетинской автономной области) в те годы составляло 60 тысяч человек».
В главе «Национально-освободительная борьба Южной сетии в 1991 г.» представителей тогдашнего грузинского правительства — «грузинские формирования» — называют «захватчиками», «агрессорами», «боевиками», «вероломными врагами», которые считали, что «осетинское население, не согласное с решениями грузинского правительства, должно покинуть пределы Грузии», а их действия — «бесчинствами».
«Из сел со смешанным грузиноосетинским населением изгоняли осетин, сжигая их дома. Потоки беженцев потянулись к Рукскому перевалу (Рокский — ред.). Как и в 1920 г., они искали спасения в Северной Осетии. Как и тогда, дорога до российской границы не была безопасной, отряды экстремистов нападали на беззащитных людей».
Авторы пишут и о ситуации «в самой Грузии» — «людей выгоняли с работы, выселяли из собственных домов и квартир. Тех, кто сопротивлялся, убивали за осетинское происхождение».
По мнению осетинских авторов, это Грузия «оккупировала» Цхинвальский регион.
«Осетины решили оставаться в составе России. Годом позже, в мае 1917 г., грузины объявили Тифлисскую и Кутаисскую губернии независимой Грузией. В состав этого сепаратистского формирования пытались включить и Южную Осетию. Однако сделать это против воли народа не удалось. И тогда самопровозглашенная Грузинская демократическая республика осуществила против Южной Осетии жестокую агрессию
1918–1919 гг. и геноцид 1920 г.», — сообщат учащимся школ региона.
Пропаганда де-факто властей оккупированного региона Грузии говорит о том, то «республика» Южная Осетия создана на основе «всенародного волеизъявления», что она имеет «суверенитет» и «постоянное население» с «определенной территорией и эффективным управлением», а также то, что «республика» способна защищать «свой суверенитет, жизнь и политические права своих граждан».
«Народ – первичный носитель территориальных прав. Он делегирует их государству, которое обязано действовать от его имени и в его интересах. «Декларация о принципах международного права», принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1970 г., прямо указывает, что территориальная целостность государств должна основываться на самоопределении народов», — оправдательно пишут авторы.
В Цхинвали утверждают, что «исторически Осетия никогда не была частью Грузии» и что она «к моменту провозглашения республики Южная Осетия уже не находилась в составе Грузинской ССР». Утверждается, что, когда «самоопределившаяся Грузия получила международное признание, в ее составе не было Южной Осетии». И что это понимают и в Тбилиси, и на Западе.
«Приходилось создавать марионеточную администрацию (Администрация Южной Осетии, первый глава — Дмитрий Санакоев, второй — Тамаз Бестаев — ред.), чтобы делать вид, будто их государство «соблюдает в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов». Иначе было бессмысленно вспоминать о территориальной целостности».
В Цхинвальском регионе переворачивают историю с ног на голову, сообщая молодому поколению, что Южная Осетия отделилась не от Грузии, а от СССР тогда как ранее эта территория называлась автономной областью в составе Грузинской ССР.
«Подавляющее большинство современных государств мира обрели независимость путем отделения от других государств. Зададим себе простые вопросы и ответим на них. Из какого государства выделилась самоопределившаяся Южная Осетия?- Из распавшегося Союза ССР», — пишут авторы школьного учебника.
Подчеркивается, что именно Россия имеет «исторические права» на территорию Южной Осетии.
«Это государство называется Россия, к которой единая Осетия присоединилась в XVIII в. Но Россия не предъявляет территориальных претензий к Южной Осетии. Как же относиться к претензиям Грузии, возражающей против самоопределения Республики Южная Осетия? – Они не имеют отношения ни к истории, ни к народному волеизъявлению, ни к нормам международного права», — подчеркивают составители издания для старших классов.
В главе «Между миром и войной: Южная сетия в 1992–2003 гг.» говорится о «военной агрессии Грузии», повлекшей за собой «геноцид и разруху».
По словам авторов, «обманчиво» ситуация стабилизировалась к 2004 году, после «революции роз», которая названа «госпереворотом». Власть Саакашвили пока обратилась к осетинам с «мирными обещаниями» — тогда, пишут авторы, и Цхинвальский регион, и Абхазия уже были «самостоятельными государствами».
По поводу Эргнетского рынка в учебнике говорится, что «под предлогом борьбы с контрабандой он был закрыт», а Тбилиси якобы устроил жителям региона «гуманитарный штурм».
«Сельским жителям навязывали минеральные удобрения, ветеранам с хорошими российскими пенсиями предлагали мизерные грузинские пенсии, югоосетинских детей пытались вывезти на курорты Грузии для летнего отдыха. Народ Южной Осетии отверг все подобные приманки, расценивая их как посягательство на суверенитет своей Республики».
В 2004 году, пишут авторы, был продолжен курс на восстановление территориальной целостности Грузии — Тбилиси пошел на «военную агрессию»: цель не была достигнута, но «грузинские военные и полиция старались спровоцировать столкновения с российскими миротворцами».
«На фоне военных действий шла дипломатическая война: Грузия обвиняла Россию в поддержке осетинских «сепаратистов» и требовала вывести из Южной Осетии миротворческие силы. Россия же выступила с жестким заявлением о своем намерении не допустить силового решения «югоосетинского вопроса»».
Российско-грузинская война 2008 года
Не удивляет, что в учебнике по истории (стр.282) цхинвальские историки повторяют нарратив российской пропаганды: а именно, сообщается, что Грузия напала на свой регион и свой народ. Пропаганда пишет, что план Саакашвили заключался в том, чтобы окружить Цхинвали и блокировать границу с Россией, а далее — создать «марионеточное правительство на оккупированных Грузией территориях Южной Осетии». Даже «физическое устранение» представителей де-факто власти в Цхинвали и создание «террористического центра».
«Военные действия начались в ночь с 1 на 2 августа. Цхинвал и села Южной Осетии подверглись массированному минометному обстрелу. В следующие дни обстрелы усилились, росло число жертв и разрушений. Особенно пострадали селения Хетагурово, Дменис, Сарабук. Грузинские снайперы вели охоту на мирное осетинское население. В грузинских селах, которые контролировались оккупантами, прошла мобилизация, все мужчины от 16 до 60 лет получили оружие, детей и женщин вывозили в Грузию. 5 августа грузинские войска получили приказ выйти на заранее определенные позиции».
Авторы также пишут, что де-факто власти Цхинвали с 1 августа 2008 года организовали эвакуацию детей и стариков из Цхинвальского региона и его окрестных сел в Северную Осетию-Алания (Российскую Федерацию).
В ночь на 8 августа «в 23 часа 25 минут на спящий Цхинвал обрушился град ракетных ударов, рассчитанных на полное уничтожение города. Обстрел из всех видов оружия продолжался всю ночь. Одновременно началось вооруженное наступление на Ленингорский (Ахалгорский — ред.), Цхинвальский и Знаурский районы», читаем в учебнике для старшеклассников.
Также ученикам рассказывают, что ВС Грузии должны были захватить регион за 2-3 дня: сначала Цхинвали, потом Гуфта-Джава, Рокского тоннеля и Транскама. Таким был план, по утверждению цхинвальской/российской пропаганды.
Сообщается о том, что военные силы Грузии превосходили «защитников Южной Осетии», но ничего не сказано о том, что Россия, заранее готовясь по «домашним заготовкам» к августовской войне с Грузией, заранее перебросила свои войска, вторгнувшись на территорию Грузии. Историки ограничились лишь упоминанием о «миротворцах», якобы только они и находились в регионе.
«В тот же день 8 августа 2008 г. Россия приняла решение об оказании помощи российским миротворцам и спасении народа Южной Осетии от уничтожения. Уже во второй половине дня началась военная операция по принуждению Грузии к миру. В небе над Южной Осетией в бой вступила российская авиация. А через Рукский (Рокский — ред.) тоннель прошли первые российские боевые подразделения».
<…> На рассвете 8 августа ликующие захватчики на танках и бронемашинах ворвались на окраины города. Там их встретили силы самообороны Южной Осетии, и настроение интервентов стало портиться».
Авторы пишут, что «всех, кто пытался выехать из Цхинвала на собственном автотранспорте, расстреливала грузинская артиллерия» (стр.286).
Цхинвальские историки пишут, что все попытки представить августовскую войну 2008 года как нападение России на Грузию «с треском провалились», ссылаясь на доклад Тальявини.
В Цхинвальском регионе продолжают заменять грузинский язык русским
Пропаганда подчеркивает, что осетины выстояли и восстановили с помощью РФ «свою территориальную целостность», а «важнейшим политическим следствием» этой войны стало признание Москвой «независимости» Цхинвальского региона, которое осетины считают «восстановлением исторической справедливости, гарантией безопасности, подтверждением своего права на свободное развитие».
«Для народа Южной Осетии августовские испытания 2008 г. стали завершением отечественной войны, растянувшейся на два десятилетия. Республика Южная Осетия выстояла, с помощью России победила жестокого врага и восстановила свою территориальную целостность».
Также отмечается, что Грузия и в 2008 году устроила «новый виток геноцида» осетинского народа». Цхинвальские историки ничего не сказали о тех этнических грузинах, которые были вынуждены покинуть родные дома в Цхинвальском регионе и не имеют до сих пор возможности вернуться в родные места.
В конце книги говорится о том, что между «Осетией и Грузией» нет этнических или конфессиональных конфликтов — «ни в грузинской культуре, ни в характере трудолюбивого грузинского народа».
«Ответ на этот трагический вопрос – в политическом устройстве Грузии.
В основании грузинской общественной жизни лежит иерархическая система отношений. Любые социальные связи, групповые или индивидуальные, выстроены в «вертикальный» порядок», и грузинская элита всегда будет пытаться «разрушить осетинское единство», а для этого надо «истребить осетинский народ».
«Именно это раз за разом пробует сделать политическая элита соседней
Грузии, когда претендует на территорию Осетии. Ни от политического статуса Грузии, ни от того, кто выступает ее хозяином, это не зависит».
Оккупированный регион Грузии в наши дни — версия цхинвальских историков
Местные историки пишут, что в оккупированном Цхинвальском регионе проживает 7,4% грузин, 1,1% русских, 0,7% — армян, а осетин — 89,9%.
«В 2015 г. проведена всеобщая перепись, установившая численность населения Республики – 53 532 человека. <…>Государственные языки Республики Южная Осетия – осетинский и русский. Грузинский язык имеет статус официального в местах компактного проживания граждан грузинской национальности».
Историки также не сообщают о том, что этнически грузинское население лишено возможности получать образование в школах на родном, грузинском языке.
В оккупированном Ахалгорском районе углубляют знания русского языка