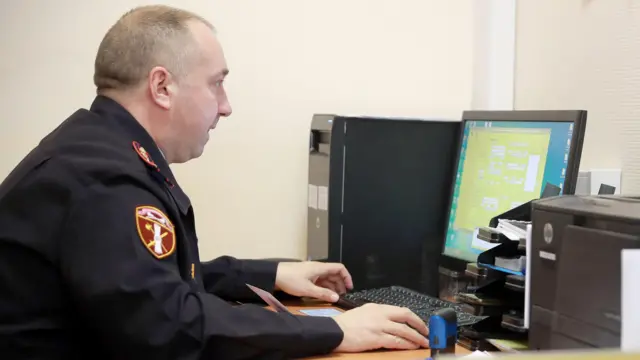Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS
-
- Автор, Амалия Затари
- Место работы, Би-би-си
В России в следующем году создадут единый реестр пациентов, данные из которого станут доступны как медицинским службам, так и МВД. Мнения профессионального сообщества о нем разделились: одни говорят об автоматизации данных и техническом прогрессе, другие называют реестр нарушением врачебной тайны и предупреждают, что он может отпугнуть людей от обращения за психиатрической и наркологической помощью. Би-би-си разбиралась, как это будет работать и кого из пациентов затронет.
Что это за реестр?
Единый реестр пациентов начнет действовать с марта 2026 года. В него попадут люди с рядом заболеваний, в том числе с онкологией и сахарным диабетом, беременные, а также пациенты с психическими расстройствами, в том числе с алкоголизмом и наркоманией, состоящие на диспансерном учете.
Доступ к реестру будет у органов здравоохранения, МВД и Росстата. Одна из его целей — сбор статистики. Согласно постановлению правительства , в реестре будут содержаться обширные данные о пациентах, в том числе о течении болезни и ходе лечения, о выписанных лекарственных препаратах и госпитализациях.
Про пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения в реестр будут также включать данные о том, есть ли у них суицидальные мысли и самоповреждающее поведение, и о назначении им судом принудительного лечения.
Кроме того, по этой категории больных в реестр будет вноситься дата начала диспансерного наблюдения за ними и дата его прекращения. Фактически это означает, что после того, как человека с психическим заболеванием снимают с диспансерного наблюдения, данные о нем все равно остаются в реестре.
Кто из психически больных попадет в реестр?
В качестве подлежащих к включению в реестр в документе указан практически весь перечень психических расстройств и расстройств поведения из Международной классификации болезней (МКБ-10). Но включать будут данные не всех пациентов с такими диагнозами, а только тех из них, за кем «требуется диспансерное наблюдение».
Диспансерное наблюдение предполагает, что человек приходит в государственный психоневрологический диспансер (ПНД) не по своему желанию, а по требованию врачей. Врачебная комиссия может назначить такое наблюдение людям, страдающим хроническими затяжными психическими расстройствами с тяжелыми проявлениями или с частыми обострениями. Пациенты под диспансерным наблюдением должны посещать ПНД с определенной частотой, которую им установят врачи.
Врач-психиатр Иван Мартынихин приводит в пример диагноз «шизофрения». «Больных шизофренией ставят на диспансерное наблюдение и периодически вызывают. Потому что когда у такого человека психоз, обострение переживаний, они могут быть опасны как для него самого, так и для окружающих. Он может не понимать, что болен, и поэтому сам не обратится за помощью. Поэтому диспансерное наблюдение нужно, чтобы врач мог вовремя заметить ухудшение состояние пациента и оказать ему необходимую помощь».
Диспансерное наблюдение в России может назначить только врач ПНД. При этом большинство людей, которые обращаются в ПНД с разными жалобами на свое состояние, получают там консультативно-лечебную помощь, под диспансерное наблюдение их не ставят.
Могут ли пациенты частных клиник или врачей частной практики оказаться в новом реестре больных? Врач-психиатр Оксана Палатина обращает внимание на формулировку в постановлении: в реестр включаются пациенты, не находящиеся под диспансерным наблюдением, а с диагнозами, «требующими» его.
Раньше врач частной практики, если к нему приходил пациент в тяжелом психотическом состоянии, который отказывался от лечения, но не имел показаний для недобровольной госпитализации, не мог никуда передать данные о нем, чтобы ему помочь, говорит Палатина.
С новым реестром, по ее словам, частные врачи смогут передавать данные о таких пациентах в ПНД, чтобы тех навестил участковый психиатр или вызвали на прием в диспансер для оказания дальнейшей помощи. «В таких крайних случаях, когда человек не может о себе позаботиться, это постановление может улучшить взаимодействие [между ПНД и другими медорганизациями]. Но такие случаи крайне редки», — говорит она.
В последние годы российский Минздрав не разглашает данные о том, сколько россиян находятся под диспансерным наблюдением в ПНД. В 2022 году гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Светлана Шпорт (сейчас она занимает должность главного нарколога Минздрава) оценила их число в 1,4 млн человек.
В мае 2024 года в Минздраве рассказали, что 54,5 тыс. россиян стоят на активном диспансерном наблюдении, почти 73% из них уже совершали общественно опасные действия в прошлом. Активное диспансерное наблюдение устанавливается в отношении людей, у которых есть риск совершения социально опасных действий и многие из которых уже были судимы и приговорены к принудительному лечению.
С 1 марта 2025 года власти уже обязали медиков передавать данные таких пациентов в МВД. А доступ к данным остальных пациентов ПНД, за которыми установлено диспансерное наблюдение, полицейские получат в 2026 году, когда заработает единый реестр больных.
Что изменит реестр?
Люди с психическими расстройствами, находящиеся на диспансерном наблюдении, а также люди с расстройствами от психоактивных веществ (ПАВ) еще до появления реестра были ограничены в некоторых правах — они не могут получить водительские права, лицензию на владение оружием, у них могут возникнуть проблемы при устройстве на работу в государственные организации или в частную охрану. Реестр в этом смысле ничего не изменит, но усилит контроль за соблюдением этого запрета, говорит Мартынихин.
Он приводит в пример ситуацию, когда человек с шизофренией, находящийся под диспансерным наблюдением в ПНД, переезжает в другой район и идет там за медсправкой для получения оружия. В случае, если он намерен скрывать свою болезнь, психиатр может не обнаружить у него диагноза, говорит Мартынихин.
Автор фото, TASS
«Врач тут находится в немного дурацкой ситуации, — продолжает он, — У него нет данных о болезни просто потому, что человек переехал. Если у человека нет видимых признаков заболевания, почему он должен отказать ему? А если он ошибся, дал человеку справку, а он потом что-то совершил? Врача потом будут судить за халатность».
При этом он отмечает, что большинство людей, находящихся под диспансерным наблюдением, не несет никакой опасности для общества, а риск совершения преступлений у людей с шизофренией не сильно выше, чем у людей без этого диагноза.
С учетом того, что данные из реестра будут доступны не только ПНД, но и другим медучреждениям, это может усилить стигматизацию людей с психическими заболеваниями и расстройствами в обществе и в медицинской среде, считает Оксана Палатина
«Эта стигматизация уже существует среди медицинских работников, — говорит она, — Некоторые врачи боятся людей с психическими расстройствами. Они могут списать какие-то жалобы пациентов на психические расстройства, недостаточно серьезно относиться к его жалобам или просто избегать взаимодействия с ним».
Палатина замечает, что несмотря на то, что число людей под диспансерным наблюдением небольшое, их жизнь новый реестр может существенно осложнить. «Раскрытие информации о них медучреждениям и полиции — это нарушение врачебной тайны», — говорит она.
«Часто бывает, что пациента обижают его собственные родственники, и он обращается в полицию, — продолжает она, — Были прецеденты, когда полицейские верили им [таким пациентам] менее охотно, чем их родственникам, даже если те были неправы».
Мартынихин считает, что теперь полицейские смогут более активно помогать врачам доставлять в ПНД тех пациентов под диспансерным наблюдением, которые игнорируют вызовы и не приходят на прием. Но Палатина замечает, что у полицейских уже были полномочия содействия госпитализации, но они не всегда этим занимались.
«Когда нужно было содействие госпитализации, в каких-то случаях полицейские приезжали быстро, но иногда с ними нужно было вести переговоры, потому что они были заняты. Они не всегда могли срочно приехать, потому что у них были какие-то свои внутренние дела», — вспоминает она.
Создание реестра будет способствовать снижению обращений в государственные медицинские учреждения с такими жалобами, даже несмотря на то, что обращение не ведет к попаданию в реестр, считает Палатина.
Психиатр Иван Мартынихин с этим не согласен: «Если будут нагнетать, что теперь все попадут в этот реестр, то, конечно, это отпугнет [людей от обращения за помощью]. Но это касается только тех, кто на диспансерном наблюдении. Их и так никто не спрашивает, хотят они идти в диспансер или нет, как их может отпугнуть эта информация? Их и до этого не спрашивали, и сейчас не будут спрашивать. А остальных это не касается».
Что изменится для людей, употребляющих ПАВ
Люди с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ — алкоголя, наркотиков и других препаратов, обычно наблюдаются не в ПНД, а в наркодиспансерах. Новый реестр их тоже затронет.
В России пациентов с такими диагнозами ставят на наркологический учет. Он бывает профилактический и диспансерный. На профилактический учет человека ставят, если он столкнулся с проблемой один или если сам пришел в государственное медучреждение с жалобами, связанными с употреблением, говорит психолог Никита Авдошин, работающий с уязвимыми группами населения, в том числе с теми, кто употребляет ПАВ.
«Но это скорее редкость, — продолжает он. — Большинство людей в этой системе состоит именно на диспансерном учете и чаще оказываются там недобровольно».
Суд может назначить принудительное лечение от наркомании как наказание по статье 228 УК (хранение наркотиков). «Для этого обвиняемый должен признать себя наркозависимым и согласиться на лечение, — говорит Авдошин. — Многие этим пользуются, чтобы избежать наказания в виде лишения свободы».
В этом случае люди попадают под наблюдение в наркодиспансер. Также под него попадают те, кого неоднократно госпитализировали с психозами на фоне употребления ПАВ. «Профилактический учет не гарантирует отсутствия последствий и тоже легко превращается в диспансерный», — добавляет психолог.
Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS
Наркоучет, как и диспансерное наблюдение в ПНД, означает ограничение в некоторых правах. Это отпугивает людей от государственной наркологии. Чтобы избежать постановки на него, люди, употребляющие ПАВ, и их близкие, предпочитают обращаться за помощью в частные клиники или реабилитационные центры.
Позволить это финансово могут не все, поэтому для этой категории больных свойственно социальное расслоение, говорит Авдошин: «Под диспансерным наблюдением оказываются не наиболее социально опасные люди, а наиболее социально уязвимые, у которых не хватило средств на частную клинику и которые из-за этого были вынуждены обратиться за государственной помощью».
Наркоучет носит временный характер, и человека впоследствии могут снять с него. Единый реестр больных такой возможности не предполагает. Это еще больше оттолкнет людей от государственной наркологии и усугубит социальное неравенство, считает Авдошин. В конечном счете это приведет к росту популярности частных рехабов, многие из которых работают в серой зоне законодательства и оказывают ненадлежащие услуги, в том числе пыточного характера, говорит юрист Арсений Левинсон.
Разве раньше у МВД не было доступа к данным ПНД и наркодиспансеров?
Сейчас диспансеры и другие медицинские организации предоставляют полиции информацию о пациентах по запросу — полиция запрашивает данные в отношении конкретного лица в связи с каким-то правонарушением или расследованием какого-то преступления.
«Но это персонализированные данные, а со следующего года полиция будет иметь перманентный доступ к этим данным в отношении всех лиц, попавших в реестр. Это большая разница», — говорит Левинсон.
Доступ к таким данным был еще у советской милиции. В конце 1980-х вышел совместный приказ Минздрава и МВД СССР, который обязал диспансеры передавать милиции данные о потенциально опасных пациентах. Вскоре после распада СССР, в 1997 году, российские власти отменили действие этого приказа. «Полиция с тех пор пытается вернуть себе эти полномочия», — продолжает Левинсон.
В 2019 году МВД уже предлагало создать отдельный реестр лиц, «имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих», и сделать его доступным полиции. Тогда ведомство объясняло это необходимостью профилактики правонарушений среди таких больных и приводило в пример резонансные преступления, в том числе убийства, совершенные людьми с психическими диагнозами.
Российский Минздрав тогда запросил отзыв на предложение МВД у экспертного сообщества. Российское общество психиатров (РОП) тогда этот проект раскритиковало. В своем ответе они в том числе привели данные самого МВД о том, что в 2018 году доля общественно опасных действий, совершенных лицами в состоянии невменяемости, составила всего 0,76% (7 070 случаев из 931 107 преступлений).
В РОП тогда назвали предложение МВД о создании реестра психически больных «противоречащим принципам медицинской этики». «Это фактически стигматизирует лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, так как основывается на убеждении, что психическое заболевание само по себе предполагает склонность к совершению ими преступлений», — говорилось в ответе РОП на эту инициативу.
Тогда предложение МВД не было принято, в том числе с учетом мнения профессионального сообщества. Но в этом году оно прошло. «Судя по всему, МВД это наконец продавило, и мнение профессионального сообщества в этот раз никто не спросил», — полагает Левинсон.
«Это соответствует тем тенденциям, которые присутствуют в российском государстве: усиление правоохранительных ведомств и ослабление социальных служб», — резюмирует юрист.
Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS
При этом реестр заработает только в следующем году, и из постановления о его создании нельзя понять, как именно полицейские и сотрудники медучреждений будут получать доступ к нему.
Левинсон считает, что сотрудники полиции, имея доступ к реестру, смогут приходить домой к людям, стоящим на учете в наркодиспансерах, «для профилактики криминального поведения». «В худшем случае — они смогут приходить домой к людям, проводить профилактические мероприятия, беседы, держать их под пристальным вниманием, привлекать по необходимости органы опеки», — рассуждает Левинсон, добавляя, что люди под наблюдением в наркодиспансере могут долгое время находиться в стойкой ремиссии, работать, растить детей.
Опрошенные Би-би-си врачи-психиатры усомнились, что полицейские будут таким образом посещать людей с расстройствами из-за ПАВ, включенных в реестр, предположив, что у МВД на это может не оказаться ни ресурсов, ни желания. Авдошин считает, что эта категория людей уже сейчас может подвергаться контролю со стороны полиции, поэтому реестр здесь ничего существенно не изменит.
Авдошин опасается, что впоследствии доступ к этому реестру могут расширить. «Можно представить, что доступ к нему получат, например, банки. И банки на этом основании будут решать, дать человеку кредит или нет. Это одно из возможных последствий систематизации данных».
Психиатр Иван Мартынихин считает, что реестр — один из этапов автоматизации данных и информатизации процессов в медицине. Он напоминает, что одна из целей реестра — сбор статистики, и ссылается на международный опыт: «Есть уже много научных исследований, например, шведских, других скандинавских стран с такими базами данных, которые построены на исследовании этих данных. То есть научная общественность знает эти данные хотя бы в статистическом виде».
Власти заверяют, что данные в реестре будут тщательно охраняться, но у собеседников Би-би-си вызывает опасения их возможная утечка. «С одной стороны, любая информатизация — это удобство, — говорит Мартынихин, — с другой стороны, всегда есть риски того, что это станет кому-то известно».