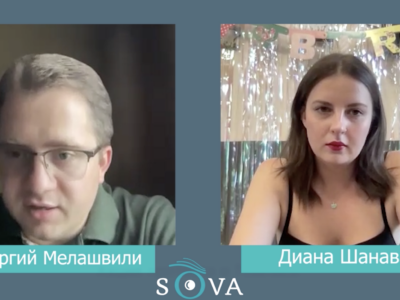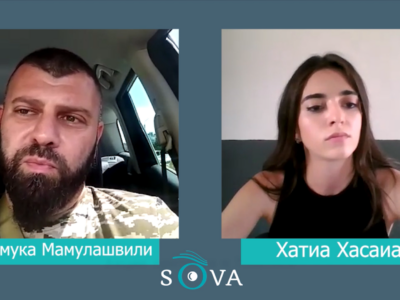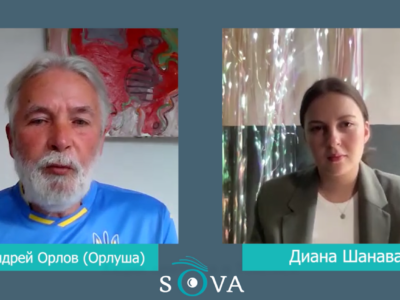Сергей Лебедев - русский писатель и журналист. Его первый роман «Предел забвения» вошел в число 10 лучших книг, переведенных на английский язык, по версии The Wall Street Journal. Недавно в Грузии вышел перевод его крайнего романа «Люди августа».
Эта книга — попытка разгадать семейную тайну, которая приводит автора в бывшие лагеря Казахстана и охваченный войной Кавказ. Это попытка осмыслить недалекое прошлое и понять, почему русский человек по сути своей просто боится свободы.
-Вас называют одним из самых популярных современных российских писателей на Западе. Вы сами себя относите к какому-либо литературному направлению?
Нет, потому что я гораздо более известен на Западе, чем в России. Мои книги больше выходят в переводах. Я, скорее, стою наособицу, потому что попал в литературу несколько случайным образом. Так бывает однажды, ты живешь, а потом понимаешь, что у тебя есть долг. Этот долг приходит к тебе очень реальным и обязывающим образом. Когда ты понимаешь, что есть люди, которых уже нет на свете и ты- единственный, от кого зависит, будет о них память как-то закреплена в этом мире или они просто уйдут. Поэтому я, скорее, не профессиональный литератор, а медиум, который общается или представляет тех, у кого нет голоса в этом мире.
Есть писатели, к которым я отношусь с большим уважением, и на которых смотрю как на пример человеческого и писательского поведения. Первое имя — это, конечно, Светлана Алексиевич. Она работает за всю русскоязычную литературу. Она идет туда, где люди лишены голоса. Она напрямую работает с теми травмами и большими историческими событиями, которые сделали нас такими, какие мы есть. Но она, к сожалению, пример очень редкий. Современная русская литература пишет про многое, но про главные вещи она не пишет. Мой вынужденно любимый пример: мы с вами в 2019 году, соответственно, в декабре будет 25 лет началу первой войны в Чечне. Я хочу спросить — где? Где книги? Где что-то, написанное на русском языке? Не просто военные истории, которые вспоминают люди, а попытка осмыслить в образах, предложить какое-то понимание, где мы оказались в результате этой войны. Этого нет.
-Кто-нибудь еще пишет про Чечню?
Есть Аркадий Бабченко, который, насколько я понимаю, сначала сам был солдатом на этой войне и впоследствии попытался как-то это переосмыслить. Но проза Аркадия документальная. У нее есть свои ограничения. Она сообщает какую-то правду, но не создает, на мой взгляд, тех образных конструкций, в которых может узнать себя и ужаснуться себе, поколение, страна, народ. В этом смысле мы присутствуем в моменте, когда существует литература, которая необходима. И мы можем только верить, что кто-то из наших с вами современников, пишущих на русском, скажет свое слово. В глубине души людям хочется читать о наболевшем, о самом главном, о том, что терзает и мучает. Если брать классическую русскую литературу, то писатели очень быстро, четко и ясно реагировали на происходящее рядом с ними. Любимый пример: Достоевский начал писать произведение «Бесы» несколько месяцев спустя убийство студента Сергеем Нечаевым. Эта книга написана из дышащей печи. Это то, чего нам сегодня так не хватает.
-Вы ранее сказали, что в один день поняли, что у вас есть долг. Что это был за день?
В моей семье был человек, который, как я думал, был просто советским администратором, управленцем среднего звена. О нем не очень говорили. Он был как размытая фигура на втором плане фотографии.
Я нашел некоторые семейные документы и узнал, что этот человек был подполковником ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ. Он был награжден многими орденами и самый высокий орден Ленина получил в 37-м году. Соответственно, я вдруг осознал, что второй муж моей бабушки был просто обычным палачом. Начальником концлагеря, а потом начальником многих концлагерей. Это был абсолютный шок. Я не понимал, что с этим знанием делать. Бабушек и дедушек, которые могли что-то сообщить, давно уже не было на свете. Запросить его личное дело я не мог, потому что он офицер госбезопасности. Их личные дела не выдают. Но этот документ буквально жег руки. И я понял, что, может, я же не один такой, кто, однажды залезая на бабушкины антресоли в надежде найти что-то одно, находит совсем другое. Я понял, что должен написать книгу об этом поиске, об этом понимании. И самое главное, книгу об этом человеке. Потому что в России все эти бывшие подручные, все эти люди, непосредственно осуществлявшие репрессии, исчезли. Они растворились в массе таких же неопределенных стариков с непонятным прошлым. Если мы говорим «офицер СС», из книг и из фильмов мы мгновенно собираем какой-то образ. Если мы говорим «офицер НКВД», то кроме формы мы ничего не можем представить. У них нет лица, они исчезли, они спрятались.
Я должен был написать книгу, которая бы вытащила эту фигуру из забвения, наделила бы плотью, вернула в тот обиход культуры, в котором живут язык, искусство, совесть и память народа. Таким образом, я стал писать первый роман, но пока я его писал, выяснилось, что это не единственный скелет в шкафу. Одна книга повела за собой другие.
-Как вы считаете, последующее поколение должно чувствовать стыд и ответственность за содеянное их предшественниками?
Ответственность – это универсальная категория и то, чего, во всяком случае, российскому поколению, критически не хватает. В перестройку была очень популярна как раз тема покаяния. Был прекрасный фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Но в каком-то смысле вместо того, чтобы предпринимать какие-то действительные и практические шаги, мы посмотрели фильм и решили, что этого достаточно. Книги и фильмы могут отвечать за эмоции, за стыд, за раскаяние, за жгучее желание, чтобы это не повторилось. Но если это не поддержано институциональными реформами, которые кодифицируют и вводят в законодательство эти вещи, если это не поддержано определенными институциями, которые отвечают за историческую память, то это половинчатые вещи. Мы будем обречены на второй круг.
В начале 90-х в России был принят закон о реабилитации жертв репрессий. Там была отдельная статья про репрессированные, высланные народы, а буквально через год та же самая Россия с этим своим прекрасным законом ввела танки на территорию Чечни. Началась война. Вот как это совместить? Это объясняется только одним образом: принимаются какие-то хорошие гуманитарные решения, но реальной ответственности за ними не стоит. Если вы понимаете, что в этом месте буквально 40 или 50 лет назад уже вашими руками от вашего имени было совершено чудовищное зло и вы идете туда же как слепые…Второй раз не прощаются вещи, которые, может, прощают в первый.
Сегодня в России никто не готов говорить об этом недавнем прошлом в залоге ответственности. Мы сфокусированы на сталинских репрессиях, на том, что было давно. Но, помилуйте, 25 лет назад началась война, такая же репрессивная кампания, которая по масштабу кровопролития сравнима только с 30-ми годами. Если сейчас мы с вами начнем в России говорить о том, что наше требование, как оппозиции — расследование, суд над теми, кто это сделал, вам скажут: «Ну, может как-то потом, мы сейчас должны решить вопросы политики, власти, идей». Из безнаказанности того, что творили войска и российские правоохранительные органы в Чечне, вырос весь такой же абсолютно беззаконный режим, который просто распространился на всю страну. Если твоя армия перестает быть армией и становится карательным инструментом, если твои службы безопасности содержат собственные лагеря и занимаются пытками, то не надо думать, что это не пойдет дальше. Вам сейчас скажут: война — дело прошлое, что сейчас с этим делать. А мне хочется, чтобы литература нам напоминала, что «нет, ребята, это не дело прошлого». Это дело сегодняшнее и мы все живем в стране, которая, к несчастью, родилась заново нехорошим образом.
— Ваша книга называется «Люди августа». Расскажите, кто они?
Думаю, это люди двух августов. Люди августа 91-го, августа надежд и ощущений, что все прекратилось. Я помню, что происходило в 50- ти километрах от Москвы в эти дни. Люди просто сидели и слушали радио. Как будто это происходило на другой планете. Что радио скажет, так и будет. Радио скажет «влево», значит история пойдет влево. Как будто они никогда не обладали субъективностью. Будто не знали, что можно поехать, в чем-то поучаствовать, поддержать. Они сидели на дачных участках и ждали, когда радиоприемник решит их судьбу. И даже те люди, которые не ждали, стояли на площадях, в их порыве было и прекрасное, и глубоко непродуманное. Книга начинается с момента, когда падает статуя Дзержинского. Символ. Людям была важна победа над символом, а когда символ был побежден, казалось, что все уже сделано. Но это глубоко не так.
Мы в 91 году не понимали, какие структуры опасны. Или боялись. Поэтому Дзержинского свергли, а та структура, которая осталась нетронутой, целиком перенесла себя в новое государство, в новую как бы демократическую страну. Мы помним, что до событий декабря 94-го был так называемый рейд оппозиции на Грозный, когда оказалось, что там никакая не оппозиция, а сидят российские офицеры в танках, завербованные федеральными службами контрразведки. Вот их рука. Вот их методы. Вот единственное, что они в этой жизни могут делать. Они не понимают про ценности диалога, сотрудничества, компромисса, взаимопонимания. Они понимают про страх, ненависть, репрессии. Вот три их ключа.
— В начале книги вы пишите «они жили с кляпом во рту, потом кляп убрали, а привычка осталась». Есть ощущение, что этот фантомный кляп по сегодняшний день во рту?
Это персональное наблюдение. Люди стараются избегать определенных тем. Если ты смотришь в целом на культурные ландшафты, ты видишь как много людей, которые могли бы что-то говорить. Они уже нашли свои ниши, кто в детской литературе, кто в чем. И на круг у каждого есть свой резон. Но все равно получается молчание. Есть те, кто что-то говорят, но их процентов десять от возможного. Никто, к сожалению, не хочет стоять за правду так, как она этого заслуживает.
Мы не говорим о некоторых вещах. Мы не будем пытаться говорить о войне в Украине так, как это требует масштаб событий. Не просто выразив свою поддержку Украине, а открыто, во весь голос, неоднократно, потому что это самое страшное и самое важное, что происходит с культурой сейчас. В этой культуре возможной становится агрессия по отношению к другим людям, странам. Но встать однажды и сказать «ребята, мы за это отвечаем» — сложно.
Для страны, которая за 15 лет умудрилась причинить столько зла соседям ближним и дальним, можно было бы как-то посерьезнее относиться ко всему этому и почаще людям культуры говорить об этом.
Есть и вторая проблема — малое количество площадок, где можно что-то говорить со стопроцентной открытостью. Есть полторы газеты, есть несколько замечательных электронных ресурсов, например, Фейсбук, который стал, на мой взгляд, абсолютным аналогом советских кухонь, где вес это бесконечно обсуждалось, но никогда не выходило на улицу. Думаю, Путин должен просто поставить памятник Цукербергу и поблагодарить за то, что он создал такое чудесное пространство, где возможно кипение эмоций, но оно не перерастает во что-то организованное и выходящее за пределы.
-Вы говорите о том, что люди в большинстве своем молчат…
Я помню свое детство и не могу сказать, что мои родители очевидно чего-то боялись. Когда человек боится, он может это скрывать, но по нему видно. А здесь те очевидные страхи наших бабушек и дедушек, которые вошли глубже, превратились в привычки, жизненные стратегии, обиход.
В книге написано: «Молчание стало молчаливостью, явление свойством». Это явление второго ряда, косвенный сюжет. Культура — это протест по поводу абстрактных вещей, например, свободы слова. В России очень большой разлом. Из-за вещей, которые людей задевают лично, их кошелек, вид из окна — люди готовы выходить на протест, а вот из-за вещей абстрактных, но необходимых как воздух, очень немногие. Все свыклись, что без этих абстрактных вещей как-то можно существовать. Ну не будет еще одной газеты, но «мы же живем». Глубоко внутри есть какая-то стратегия молчания, что так лучше.
— Сегодня мы видим, что в России практически отсутствует свобода, страна далека от демократии. А когда, на ваш взгляд, Россия была близка к тому, чтобы быть такой?
Был момент, когда российское государство предельно ослабло. Та хватка, к которой мы привыкли, немножко разредилась. Это самое начало 90-х. Воздух свободы возник от того, что монстр уснул на несколько лет. Это, конечно, не была та демократическая свобода, о которой мы говорим в политическом смысле. Было присутствие чего-то отравляющего воздух. Мы помним, что уже в 93-м году случилось в России с парламентом. А через год началась война. А когда начинается война, пусть она даже идет где-то далеко и не все хотят про нее слышать, она начинает менять общество. Потому что там, где война — там враги. Ты не можешь вести войну без врагов. Если твои граждане не считают того, с кем ты воюешь, врагами, значит, ты должен сделать его врагом. Начиная с 94-95 гг. этот воздух стал очень быстро откачиваться обратно. Государство стало предельно и страшно сильным в одном месте — в Чечне. Концентрированная сила ушла туда. Если мы понимаем свободу в бытовом смысле — да, гораздо более свободно было жить, читать, выдумывать. Но это очень условная свобода. Это время свободы было потрачено очень нерационально, почти бездарно. Потому что за это время не создали никаких общественных институтов, которые могли бы противостоять авторитарному возвращению государства.
— Видите в ближайшем будущем перспективу возможных изменений?
Я вижу перспективы только в том смысле, что необходимо усваивать все те уроки, которые мы имеем по странам Восточной Европы, Эстонии, Латвии, Литве. Сейчас все равно многие относятся к вопросам будущего не очень серьезно. Главная политическая повестка оппозиции заключается в том, что плохие люди уйдут, а хорошие придут. Я уверен, что следующий любой прекрасный человек, который придет, рассказывая о том, что нужно бороться с коррупцией, столкнется с гораздо большими исторически обусловленными проблемами, потому что весь этот конгломерат собирался голым насилием. Закончили его собирать не так давно. Но он держится на структуре, управляемой центром только на насилии. Здесь ставится вопрос такого исторического масштаба, для которого нужны адекватные политики и адекватные мыслители. Вот их не очень пока вижу. И думаю, единственная перспектива и единственная надежда, что вокруг за последние 30 лет было очень много исторических уроков. Я вижу, что сейчас постепенно в оппозиционной среде растет интерес к люстрационным мерам. Я вижу какое-то зерно надежды только в этом, только в очень глубоком осознании, что это не вопрос просто транзита власти плохих людей или хороших, а того, что такое Россия, как она возникла, на чем она держится и может ли существовать в сегодняшнем своем виде и при этом являться демократическим государством. Это совершенно неочевидно.
-Современность тоже превратится в историю. Какое произошедшее за последние 10 лет событие вы бы сделали основой своей новой книги?
Начало войны на востоке Украины. Здесь произошло еще одно качественное изменение российского общества. Даже в самые черные времена 90-х российские дети не играли в войну с чеченцами. Вот война была, но в нее не играли. Мы были последним советским поколением, которое играло в войну в старшинстве. А то, что мы увидели в 14-15 годах… Русские дети начали играть в войну с украинцами. Эта подлая зараза ушла гораздо глубже. Куда-то в разум и совесть народа. Понять, как и почему это произошло, как это развивается, можно ли от этого очиститься, было бы важной задачей.
Мы начали о литературе, которая не говорит о современности и я почувствовал, что для меня пришло время написать о чем-то, что происходит здесь и сейчас. Я надеюсь, что пятый роман, который я заканчиваю, будет из этой серии.





![[Факт или Фейк]: Главные фейки 2025 года в Грузии 4 fakt ili fejk 222 e1767127905266 интервью featured, unfake](https://sovanews.tv/wp-content/uploads/2025/12/fakt-ili-fejk-222-e1767127905266-400x300.jpg)