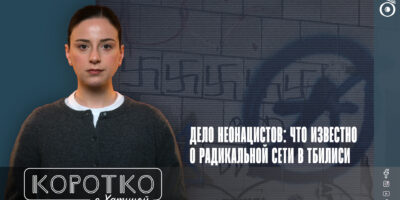![]()
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, нынешняя модель системы образования, сформировавшаяся после распада СССР, «застряла в прошлом веке» и подталкивает многих студентов к эмиграции за рубеж, поэтому необходима ее «принципиальная перестройка».
«Мы хотим исправить ситуацию, и для этого необходимо предпринять радикальные, принципиальные шаги, чтобы создать качественно иную систему высшего образования в нашей стране».
Премьер подчеркнул, что реформа станет «наиболее масштабной за последние десятилетия» и охватит все – от структуры обучения и принципов финансирования до кадровой политики, инфраструктуры и распределения университетов по регионам.
По его словам, проект реформы пройдет общественное обсуждение, после чего будет утвержден правительственной комиссией и кабинетом министров.
Аналитик, в прошлом министр образования Гия Нодия видит в новой реформе «Грузинской мечты» не образовательный, а политический проект. В беседе с SOVA эксперт заявил, что цель властей – установить прямой контроль правительства над вузами.
«Сейчас университеты остаются сравнительно либеральными и автономными, но этому хотят положить конец. Делается это под прикрытием «реорганизации» – объединения факультетов и вузов. В результате исчезнет конкуренция, а неугодные ректоры и профессора будут отправлены в отставку, и вместо них появится новая управляемая структура».
«Нулевое сочувствие» — сделка с моралью от «Грузинской мечты»
Сокращение сроков обучения
Одним из центральных пунктов реформы Кобахидзе назвал изменение продолжительности обучения в школах и высших учебных заведениях. Университетам правительство предлагает перейти на модель 3+1, при которой обучение на бакалавриате будет длиться три года, а магистратура – один. Исключением станут только отдельные направления, прежде всего медицинские и инженерные специальности.
По словам Кобахидзе, существующие учебные программы были установлены без анализа их эффективности и до сих пор не пересматривались. Реформа, как утверждает правительство, должна привести структуру грузинского образования в соответствие с международными стандартами и сделать получение диплома быстрее и доступнее.
Кобахидзе также озвучил планы по сокращению продолжительности обучения в «некоторых школах» до 11 лет. В «Грузинской мечте» уже уточнили: 11-летняя система будет основной, в то время как на 12-летнем обучении останутся отдельные немногочисленные заведения.
С резкой критикой предложенной реформы выступила бывшая замглавы Национального центра по развитию качества образования Нана Дихаминджия. По ее словам, даже искусственный интеллект «без труда выявил ключевые противоречия» в представленной концепции.
Идея замены общепринятой схемы 3+2 (бакалавр + магистр) обязательной системой 3+1 противоречит архитектуре Болонского процесса, к которому Грузия присоединилась еще в 2005 году, подчеркивает Дихаминджия. Это, в свою очередь, может привести к обесцениванию грузинских дипломов и изоляции университетов от европейского академического пространства:
«Для многих магистерских программ, особенно в области точных, естественных наук и инженерии, одного года совершенно недостаточно для освоения специальности и подготовки качественной диссертации».
«Один университет – один факультет»
Еще одним кардинальным изменением становится перераспределение университетской инфраструктуры и формирование новой академической карты страны. По данным правительства, более 85% студентов сегодня обучаются в Тбилиси, что, как считает премьер, вызывает «чрезмерную миграцию молодежи из регионов» и препятствует развитию высшего образования за пределами столицы.
«Мы поставили перед собой цель создать в стране, наряду с Тбилиси, второй крупный университетский центр – в городе Кутаиси. Когда-то Кутаиси был промышленным городом, а теперь должен стать полноценным университетским», – заявил Кобахидзе.
По словам премьер-министра, после превращения Кутаиси во второй образовательный хаб, там, наряду с Тбилиси, будут представлены все основные направления – от гуманитарных наук до медицины и технологий. Другие города – Батуми, Телави, Ахалцихе, Гори и Зугдиди – получат дополнительное развитие в педагогическом и аграрном секторах.
С этим планом связана и идея «один вуз – один факультет», которая, по словам Кобахидзе, должна устранить дублирование учебных программ и неэффективное использование ресурсов в государственных университетах:
«Мы хотим установить четкий принцип: в одном городе каждый государственный университет будет иметь только один профильный факультет. Например, в Тбилиси юридический факультет останется только при одном государственном университете. Это приведет к перераспределению факультетов и оптимизации кадровых и инфраструктурных ресурсов».
Для уже обучающихся студентов предусмотрен переходный период – без принудительных переводов, но с возможностью добровольного перехода в другие вузы.
В экспертных кругах этот подход называют «советским»:
«Принцип «один вуз – один факультет» и правительственное распоряжение о перераспределении существующих факультетов нарушают автономию университетов. Это возвращает нас к советской модели централизованного планирования, где государство решает, какой университет может преподавать по какой специальности», – подчеркивает Нана Дихаминджия.
Эксперт также раскритиковала идею концентрации системы высшего образования вокруг двух центров.
«Так называемая «дуополия Кутаиси-Тбилиси» затруднит региональное развитие. Такой подход сократит ресурсы и возможности будущего роста университетов в Телави, Зугдиди, Гори и Ахалцихе, которые в документе лишь формально упомянуты как «укрепляемые».
Профессор Университета Илии Серги Капанадзе считает, что в результате реформы «Грузинской мечты» страна получит «хаотичное, политизированное и неконкурентоспособное высшее образование»:
«Система образования отдаляется от Болонских принципов. Они [власти] сокращают общий срок обучения, переселяют студентов из столицы в регионы, экономят бюджет и уничтожают конкуренцию. Это не реформа, а способ управлять университетами и кадрами. Такая система образования больше всего подходит авторитарным правительствам».
Эксперт Яго Качкачишвили отмечает, что предлагаемая «концепция» реформы фактически представляет собой план по изоляции общего и высшего образования Грузии от европейского академического пространства и усмирению (репрессиям) университетов.
«Принцип «один город – один факультет» является нонсенсом в современных европейских или демократических системах образования, основанных на академическом плюрализме, конкуренции, университетской автономии и системе аккредитации, где государство не принимает решения об исключительном существовании того или иного факультета в конкретном городе. Думаю, даже в Советском Союзе не было такого централизованного подхода к высшему образованию».
Смена картриджа бешеного принтера: вторая волна репрессивных законов в Грузии
Государственные и частные университеты
Следующим блоком реформы стало разграничения функций между государственными и частными вузами. Премьер-министр заявил, что многие госуниверситеты сегодня «ориентируются на прибыль», принимая большое количество иностранных студентов, что «не соответствует их миссии». По мнению Кобахидзе, государственные учреждения должны выполнять исключительно государственные задачи, а рыночную и коммерческую деятельность следует оставить частному сектору.
«Есть отдельные университеты, которые больше ориентированы на прибыль, что, по сути, является вопросом бизнеса, а не государственного сектора. Мы считаем, что бизнесом должен заниматься частный сектор».
При этом Кобахидзе добавил, что государство несет ответственность за качество и содержание дипломов, поэтому должно гарантировать «равенство уровня» только для тех программ, которые проходят госаккредитацию и выполняют общественные задачи. В рамках этого подхода правительство намерено жестко разграничить академические роли двух типов вузов:
- Государственные университеты должны сосредоточиться на подготовке кадров для внутреннего рынка и реализации «государственных приоритетов» – педагогических, технических, аграрных и медицинских специальностей;
- Частные университеты, напротив, могут работать в более свободной рыночной среде, предлагая программы по спросу и ориентируясь на международную конкурентоспособность.
Премьер также заявил, что прием иностранных студентов в государственные вузы будет ограничен законом, и такие вузы смогут обучать граждан других стран только в исключительных случаях. Эта норма, как утверждает Кобахидзе, будет закреплена на законодательном уровне, чтобы госуниверситеты «не конкурировали с частными в коммерческом пространстве».
Нана Дихаминджия назвала это предложение «угрозой академической автономии»:
«Утверждение о том, что образовательный бизнес должен осуществляться в основном частными университетами, неверно в контексте смешанной экосистемы, необходимой для предпринимательства и прикладных наук. Это приведет к созданию параллельных сегрегированных систем, где государственные университеты будут отвечать лишь за теоретическое образование, а частные – за прикладное. Такой подход подрывает инновации и экономическое развитие страны».
Эксперт подчеркнула, что предлагаемая реформа фактически передает государству монополию на принятие академических решений – от формирования структуры программ до определения статуса дипломов, «что означает прямой контроль правительства над учебными планами».
«Это противоречит европейским стандартам ESG (1.1 и 1.2), которые требуют институциональной автономии в вопросах внутреннего контроля качества. Подобный шаг может поставить под угрозу членство Грузии в ENQA и EQAR и международное признание грузинских академических степеней».
По словам Дихаминджия, идея обеспечить «одинаковое качество и содержание» учебных программ во всех вузах приведет к унификации образования и подавлению институционального разнообразия, которое является ключевым принципом европейской модели. Это лишит университеты гибкости, способности адаптироваться к локальным потребностям и внедрять междисциплинарные подходы – «то есть креативности, на которой строится современное высшее образование».
Не менее серьезную обеспокоенность вызывает предложение ограничить прием иностранных студентов «исключительными случаями» в государственных вузах, что лишит вузы одного из основных источников дохода и ослабит международную репутацию Грузии как образовательного центра региона.
«Это полностью противоречит стратегии интернационализации и национальному брендингу в сфере образования, которые развивались последние годы», – подчеркнула эксперт.
Как российская фанера стала грузинской: журналисты раскрыли схему обхода санкций
Новая модель финансирования: от грантов к госзаказу
Среди ключевых элементов реформы «Грузинской мечты» – финансирование университетов. Сегодня система построена на принципе ваучеров – государство выделяет отличившимся студентам грант в размере 2 250 лари в год (около 800 долларов), независимо от вуза или специальности. По мнению Кобахидзе, эта модель «устарела» и не учитывает реальных потребностей рынка труда и расходов на подготовку специалистов.
«Стоимость гранта абсолютно одинакова для любого вуза и специальности. Это нужно пересмотреть. Система не учитывает различий между направлениями – к примеру, обучение на медицинском факультете обходится дороже, чем на юридическом или экономическом. Когда государство финансирует, у него должна быть конкретная цель. Сегодня этой связи нет», – заявил премьер-министр.
Реформа предполагает отказ от грантовой модели и переход к системе государственного заказа, при которой финансирование будет распределяться по вузам и направлениям исходя из «национальных приоритетов» и анализа рынка труда. Кобахидзе объясняет это тем, что система приема в университеты не отражает реальные запросы экономики:
«Никто не анализирует заранее, сколько нам нужно юристов, сколько экономистов, инженеров или педагогов. Без глубокого анализа распределяются квоты по вузам, и все происходит хаотично. В результате юристы работают не по профессии, а инженеров – хронически не хватает».
В рамках реформы планируется ежегодное исследование рынка труда, как утверждается, совместно с бизнесом и частным сектором, чтобы корректировать прием студентов и составлять государственные заказы в соответствии с реальными экономическими потребностями.
Нана Дихаминджия назвала такую инициативу «возвратом к политическому распределению средств» и «ударом по конкурентоспособности университетов».
«Замена системы конкурсных грантов моделью «государственного заказа» означает, что финансирование будет распределяться политически, а не на основе заслуг. Такой подход уничтожит стимулы к качеству, инновациям и конкуренции между университетами».
По словам эксперта, действующая грантовая модель, при всех недостатках, все же обеспечивала равные возможности для университетов и студентов, а также позволяла сохранять академическую свободу при выборе направлений. Новая система, напротив, делает финансирование зависимым от решений правительства и приоритетов, определяемых вне академической среды.
«Это изолирует Грузию от европейского пространства высшего образования и сократит возможности для международного сотрудничества в области исследований. Университеты перестанут быть участниками свободной академической конкуренции и станут зависимыми от административных решений».
Гия Нодия считает: главный мотив реформы – не улучшение качества образования, а перестройка всей университетской системы под политическую вертикаль, которая лишает университеты свободы, а студентов – выбора.
Система штатных профессоров
Реформа «Грузинской мечты» предполагает и перестройку кадровой системы в университетах. Ираклий Кобахидзе заявил, что сегодня большинство преподавателей работают по совместительству, что на его взгляд, «подрывает качество образования и делает систему неуправляемой».
«В нашем распоряжении есть достаточно кадровых ресурсов, но при отсутствии системы это не обеспечивается. Очень распространена практика, когда университеты нанимают преимущественно преподавателей-совместителей, и это напрямую влияет на качество преподавания и научных исследований».
Вместо этого правительство намерено сделать ставку на штатных преподавателей, которые будут не только преподавать, но и заниматься исследованиями, разработкой учебников и академических программ. Костяк университетов, по задумке, должны составить штатные профессора, доценты и ассистенты.
«У каждого направления должен быть один профессор, с которым будут работать 2-3 доцента и более 10 ассистентов. Именно так должен формироваться костяк профессорско-преподавательского состава».
Главным стимулом для закрепления кадров в вузах должно стать повышение зарплат. Если сегодня, по словам премьера, средняя оплата труда профессора составляет около 2 000 лари (около 750 долларов), то реформа предусматривает, что зарплата штатного профессора достигнет 10 тысяч лари (3,7 тысяч долларов соответственно), к которым добавятся выплаты за научную, исследовательскую и методическую работу.
«Для профессоров более высокого ранга минимальная зарплата должна составлять 10 тысяч лари, плюс гонорары за подготовку учебников, написание статей и другие виды деятельности».
При этом внештатные преподаватели смогут оставаться в системе, но на почасовой основе и с «гораздо более низкой оплатой».
Нана Дихаминджия считает, что такое условие выдавит из систем практикующих профессионалов: «Идея о том, что все профессора должны работать полный рабочий день, а остальные – только с почасовой оплатой, исключит из академической среды практикующих специалистов, снизит гибкость и усугубит нехватку экспертов в узких областях».
Юрист Саба Брачвели, в свою очередь, отмечает, что за обещанием повысить зарплаты профессорам стоит план масштабного сокращения и чистки кадров. По его словам, университетам навяжут новую иерархию, в которой сохранение должности будет зависеть от лояльности, а государственным вузам на самом деле запретят приглашать иностранных профессоров.
«Это путь к разрушению образования будущих поколений. Оставшиеся преподаватели будут вынуждены либо молчать, либо подчиняться. Без независимых профессоров и с урезанным циклом обучения уровень критического мышления еще больше снизится, создавая почву для пропаганды».
«Ноль сострадания»: аресты в Грузии после провала «мирной революции»


![[Факт или Фейк]: «секретная» или публичная встреча с послом ФРГ в Грузии 2 fakt ili fejk instagram e1769030612250 политика featured, дезинформация, Петер Фишер, посол Германии](https://sovanews.tv/wp-content/uploads/2026/01/fakt-ili-fejk-instagram-e1769030612250-400x200.jpg)